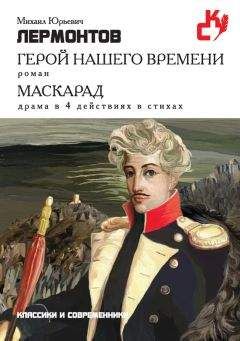Мицос Александропулос - Сцены из жизни Максима Грека
— Погоди, погоди, — то и дело говорил он Максиму, который несколько раз тщетно пытался остановить его. — Подожди, старче! — и продолжал читать:
«…Икону мою украшаете золотым венцом, а меня самого, живущего среди вас, оставляете гибнуть от голода и холода, сами же невоздержно едите и пьете и украшаете себя шелками и золотом. Не нужно мне золотых венков — зачем они мне? — хочу, чтоб накормили вы нищих, вдовиц и сирот. Не нужно мне сладких песнопений и колокольного звона — оденьте осиротевших детей моих, обуйте их, согрейте. Не нужно мне храмов, воздвигайте жилища, дайте кров моей пастве, чтобы не терзала ее зимняя непогода. Ибо сказал я вам устами евангелиста: когда накрываете столы для пира, не зовите друзей своих и братьев, ни других сродственников, ни богатых соседей, кои позвали бы и вас завтра и вернули бы то, что дадено вами. Позовите убогих, калек, хромых и слепых, вдовиц и сирот, кои не могут воздать вам, ибо наги они и голодны. Но вы торопитесь позвать богатого, бедного же презираете. И скопляете серебро к серебру и золото к золоту, затопили душу свою в вине, одолели вас сребролюбие, лихоимство, распутство и зависть, и когда наступит праздник мой, притворяетесь, будто празднуете в мою честь, на самом же деле предаетесь пьянству, чревоугодию и постыдному беззаконию…»
Феодосий закончил чтение. Лицо его горело, ноздри сердито раздувались.
— Кто написал это, святой отец? Я, еретик, или же твоя милость, святая и просвещенная?
— Я это написал, — спокойно ответил Максим. — Все, что ты прочел, — мое. И написал я это, чтобы образумить неправедных людей,[190] когда господь низверг всепоедающий огонь и сжег соборный храм в городе Твери.
— Признаешь? — настаивал Феодосий.
— Все до единого.
— Эх, старче, но ведь и я, еретик, ничего не говорю сверх этого, верного и правого. — Феодосий заглянул старцу в глаза и выкрикнул, ударив рукописью по колену: — Вот она, истинная вера! А не молитвы, не псалмы, не каноны…
Максим слушал его молча и невозмутимо.
— Брат Феодосий, — сказал он ему, — не слова твои пугают меня, а голос. Резок ты. И на пути своем не различаешь ни дорог, ни полей, ни садов, где пробиваются нежные ростки. Все ты попираешь, рушишь устои, и что же останется человеку, на что опереться ему в трудную минуту жизни?
— Справедливость останется, старче, — ответил Феодосий. — Справедливостью править лучше, чем произволом. С самого начала лгали нам епископы и попы. Одно говорил Христос, другое сказали епископы. Разделили людей разными языками, будто все мы — не букашки божьи. Каких только сказок не придумали, затемнили ложью голову неграмотного народа, чтобы терпел он беззаконие и самовластие. И что же видим мы теперь, старче? Птица меняет перья раз в год, а крестьянина ощипывают и десять и двадцать раз, кто только поспеет — князь, бояре, войско, судьи, митрополиты, игумены, монахи. Все на одного, кто хочет — грабит. А попы читают ему Евангелие, усыпляют псалмами. Учат терпеть во имя Христа, сделали из него бога. А кто был Христос? Человек, как и мы! Человек светлого разума и большого сердца. И ты, старче, знаешь это лучше, чем я.
— А бог? — спросил Максим, когда Феодосий остановился перевести дыхание. — Что скажешь о боге?
— Да! — страстно воскликнул монах. — Бог есть! Но не такой, каким сделали его лжецы! Или нет его совсем, или же он такой, каким должен быть, справедливый для всех, сострадатель, утешитель и покровитель, иначе какой он бог? Бог — это тот, кто просветляет человека, чтоб вышел он из пустыни и тьмы, подобно тому, как народ Израиля покинул земли Египта.[191] Все остальное ложь и насмешки…
Феодосий продолжал свою речь. Это был поток, несущийся с горной вершины: воды, камни, сучья и ветви — единая лавина. Максим посторонился, уступая ей дорогу, дал Феодосию выговориться.
— То, за что ратуешь ты, Феодосий, — сказал он потом, — я знаю и от добрейшего Артемия. Но ты, повторяю, резок и неотесан, не ведаешь границ, не знаешь меры. Большое это зло. Дорога, на какую ты ступил, не приведет к добру, сам погибнешь и других погубишь.
Феодосий ответил ему недобрым смехом.
— Артемий! Знаю я Артемия! Не спорю, светлая голова, видит зло, порицает безобразие, но всей правды не говорит. Умалчивает, вроде тебя, Максим.
Под пышными рыжими бровями Феодосия Максим разглядел голубые бусины маленьких глаз, поблескивающие с насмешкой.
— Почему ты так судишь? — спросил он с обидой.
— Потому что и ты говоришь не все, что следует. Пускаешься в путь, но мелкими шажками, осторожно, с оглядкой, окольной дорогой — я вижу это, Максим, по твоим писаниям. Зло ты обличаешь, беззаконие наказуешь, но говоришь только половину. Другую половину окуриваешь ладаном… Не в обиду тебе говорю, святой отец, но не все ветки дерева твоего зелены и плодоносны, одна половина живет, а другая не дает ни плодов, ни тени, ни прохлады жаждущему, ничего не дает, высохла…
Максим сгорбился, печально покачал головой. В словах монаха он нашел отголоски своих грустных мыслей.
— Высохла, говоришь? — спросил он со вздохом.
— Высохла, старче. — И, глядя, как Максим еще ниже опустил свою белую голову, Феодосий продолжал еще громче: — Посмотри, что теперь получается. Тридцать лет мучили тебя невыносимыми муками, лишь господь ведает, как ты еще жив. И те же самые люди, что тебя истязали, курят тебе сейчас фимиам, нарекают святым и мучеником — почему, как ты думаешь? Да потому, что именем твоим они бьют теперь нас. А мы ведь не говорим ничего иного, кроме того, что изречено тобой. Сказывают, будто зовут тебя в Москву.
Максим взмахнул исхудалой рукой.
— Не поеду я туда! Хочу вернуться в свои края.
— Не пустят. Выкинь это из головы.
Максим вздохнул.
— Знаю. На Афон меня не пошлют, а в Москву я не поеду. Отправлюсь к Троице, Артемий меня зовет.
— Эх, старче, — со скукой протянул Феодосий. — Думаешь, Троица далеко? Достанут и там… Да коли и на Афон вернешься или же дух твой перенесется на небеса, все одно — спасения от нас не найдешь. Останутся у нас твои писания… — Феодосий встал, перекинул за спину мешок. — Ежели, хочешь, старче, и в самом деле вернуться на родину, я скажу тебе верную дорогу.
— Какую? — спросил Максим.
— Отнесу я тебя на спине, как святую икону, до границ Литвы. Оттуда проводят тебя до Киева, потом во Влахию, в Константинополь и на Афон. Вот тебе крест, садись на меня, и в путь!
Максим решительно поднял голову.
— Нет, Феодосий…
— Боишься невзгод, — сказал монах.
— Нет, другое. Не могу я прибегнуть к помощи иноверных.