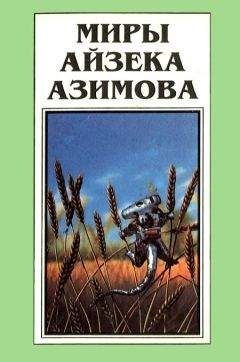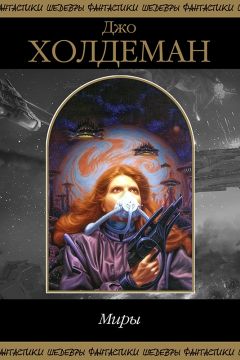Дмитрий Щеглов - Любовь и маска
Он и сам появился на экране в небольшой роли благообразного генерала — седые усы щеточкой, грустный бархатный взгляд из-под кустистых бровей: автограф для неблагодарных потомков.
Большой портрет Орловой в роли разведчицы Людмилы Грековой поместил в своем первом за 73-й год номере журнал «Искусство кино».
В первой части фильма она изображала служанку Катринхен в доме немецкого генерала, во второй — светскую даму, племянницу престарелой баронессы Амалии фон Шровенхаузен.
«Наш фильм не детектив, — объяснял Александров, — думаю, что это будет документальная лента». Что он при этом имел в виду, так и осталось загадкой.
Главные сцены картины снимали в начале весны 1973-го.
Орловой шел семьдесят второй год.
Был эпизод в сцене с Петром Вельяминовым, где она стоит в подвенечном платье, в фате.
Это было странное, это было страшное зрелище.
У нее заметно тряслась голова в кадре. Она была озабочена лишь тем, как и на сколько лет выглядит. О ее руках уже достаточно было сказано. Не помогал ни тщательно выверенный свет, ни особые ракурсы. Работа сводилась к постановкам «мизансцены ресниц».
Настоящая тема картины — отчаянная борьба Орловой со временем.
Это был фильм, где двое людей — постановщик и главная исполнительница — в равной степени не чувствовали, не видели, не знали своего возраста.
По студии ходили веселые байки, чем-то похожие на анекдоты, которые в то время травили об анемичных старцах из политбюро. «Скворец и лира» быстро переименовали в «Склероз и климакс». Любочку, впрочем, старались щадить.
Во время съемок она задергала свой организм всевозможными диетами. Она по-прежнему занималась станком, теперь уже с плачем — буквально с плачем, — отлеживаясь после своих ежеутренних полуторачасовых мучений.
Но, может быть, куда болезненнее этих физических напряжений было постоянное утруждение своего естества, подгонка его под образы своей молодости.
Болезнь возникает от несоответствий.
Теленок, превратившийся в быка на плечах возмужавшего носителя, в конце концов умирает. Мертвого нести тяжелее.
Бессмысленность этой тяжкой ноши, которую кое-как удалось доставить по назначению — довести картину до монтажа, — стала ясна после первых же просмотров материала.
«Мне никогда не будет больше тридцати девяти лет, ни на один день»… В театре эта фраза вызывала неизменный восторг. В кино, преподносимая в качестве метафоры жизни, — она больше не проходила. И не могла пройти.
Орлова оставалась ей верной до конца. Она не умела жить в каком-то ином возрасте, кроме помеченного этой театральной репликой, потому что другого возраста для нее просто не существовало — дальше шла только смерть.
Она не отступилась даже после того, как увидела отснятый материал, который с предельной жестокостью показал границы ее возможностей. Даже после того, как фильм положили на самую дальнюю и непочетную полку кинохранилища. Сколько ее обожателей были избавлены тем самым от разочарований, горечи и тоски… Вряд ли она понимала это, когда ехала на свое последнее озвучивание весной 74-го.
Вечером того же дня Орлова отыграла «Странную миссис Сзвидж». Ночью у нее началась рвота. На следующий день ее увезли в больницу с подозрением на желтуху.
«Есть много способов выразить любовь», — говорит Этель Сэвидж, вспоминая о встрече со своим мужем. Покидая больницу, она слышит фразы, использованные в ее рассказе. Обитатели клиники возвращают ей то, чем она успела поделиться с ними, — посильное выражение любви:
Джефф. Черт возьми! Вы хорошо держитесь в седле!
Флоренс. Будьте осторожны. Не сломайте себе шею!
Ферри. Возьмите зонт, на улице дождь.
Мисс Педди. Я… вас… люблю…
Ганнибалл (он не говорит ничего).
Миссис Сэвидж покидает «Тихую обитель», пациенты которой остаются в выдуманных ими мирах — настоящих, каждый — в своем. Ганнибалл виртуозно играет на скрипке, Флоренс сидит с ребенком на руках, миссис Педди рисует настоящую картину, Джефф играет на рояле, Ферри — молодая, красивая, в новом платье. Мир, о котором все они мечтали и который можно разрушить одной фразой.
Есть много способов выразить любовь. И правда — далеко не всегда самый подходящий из них.
На роль в пожарном порядке была введена другая актриса. Четвертая миссис Сэвидж. Театр тогда гастролировал в Омске.
Подозрение на желтуху не подтвердилось. Речь шла об операции: удалении камней желчного пузыря.
Орлова лежала в кунцевской больнице, в другом отделении которой вот уже не первый год (выходя и вновь возвращаясь) помещалась Марецкая. На груди у «Ве-Пе» лежал небольшой магнитофон, на который она в течение дня записывала по нескольку стихотворений: Пушкин, Тютчев, Есенин. Те, кто слышали эти записи, говорили, что это лучшее из всего сделанного Марецкой.
Позднее в этой больнице оказался и Завадский.
— Ты от меня к Вере? — спрашивал он пришедшую к нему Молчадскую. — Обязательно передай ей привет. Я скоро выберусь отсюда.
Молчадская шла к «Ве-Пе», и та давала послушать свои последние записи.
— Странно, сколько раз передавала приветы Любочке, а она мне ни разу, — жаловалась Марецкая.
— И не передам, — замедленным эхом отзывалась через какое-то время Орлова, когда ей рассказывали о сетованиях «Ве-Пе». — Не надо мне о ней напоминать.
Так они и лежали на разных этажах больницы, связанные друг с другом старостью, несчастьем и условной системой принимаемых или решительно отвергаемых приветов.
Орлова тогда выглядела самой благополучной из них.
В больнице она тотчас потребовала, чтобы ей дали возможность заниматься станком, который незамедлительно был доставлен Гришей из Внуково. На столике перед ее кроватью стояла его фотография и букет незабудок.
В то утро она позвонила ему точно в условленный час, как обычно, сказала, что чувствует себя превосходно, впервые за много дней с удовольствием позанималась станком, правда, немного устала, но ничего, «хорошенько высплюсь, а потом позвоню сама», просила его надеть на прогулку теплый свитер, а то опять похолодало, погода никак не установится.
Когда Григорий Васильевич вернулся с прогулки, была уже середина дня. Он сел перед окном в кресло и, закурив гаванку, неторопливо развернул свежие, тотчас запачкавшие подушечки пальцев «Известия». Газета еще хранила запах утреннего кофе и гренок, он начал просматривать ее еще за завтраком, но без конца отвлекал телефон. Убаюканный привычным, ничем не нарушаемым ритмом, он отложил ее через несколько минут, потом потянулся, аккуратно вернул разъехавшиеся листы в почтовую, прямоугольную форму и откинулся в кресле.