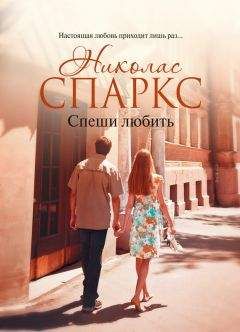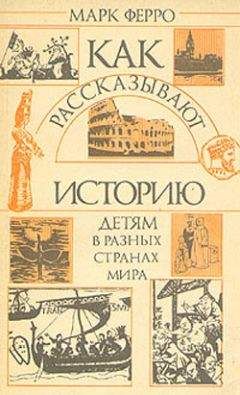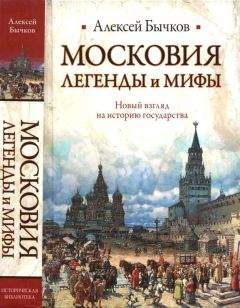Владимир Львов - Альберт Эйнштейн
«Мы нуждаемся немедленно в 200 тысячах долларов для финансирования кампании, имеющей целью разъяснить народу, насколько необходимо в настоящее время думать по-новому, если человечество хочет жить и прогрессировать. Эта просьба направлена после длительного размышления о тяжком кризисе, нависшем над человечеством».
Призыв о сборе средств был услышан многими, и в «фонд Эйнштейна» начали стекаться трудовые доллары и центы от рабочих и фермеров Америки. Часть этих средств была использована организацией «Единый мир или никакого мира», созданной по замыслу Эйнштейна-и при его участии. Остальное послано Красному Кресту Японии для помощи жертвам Хиросимы и Нагасаки.
В хорошо известном советскому читателю талантливом романе американского писателя Декстера Мастерса «Несчастный случай» можно найти отзвук глубокого впечатления, которое произвела на простых людей Америки кампания, начатая Эйнштейном. Вот отрывок диалога между двумя персонажами романа — водителем автомашины и сидящим рядом с ним в кабине солдатом:
«…— Но если сам Эйнштейн это поддерживает, так и я тоже. Я никогда об Эйнштейне плохого не слышал. И много других ученых с ним. Они хотят собрать двести тысяч долларов… Я послал пять долларов… Ей-богу, этот чудак и сам не знает, что затеял. Разъяснить народу! Растолковать народу, что за штуку мы от них получили!..»
В эти же майские дни 1946 года он узнал, что русский писатель Илья Эренбург приехал в Соединенные Штаты. Он пригласил его к себе. Эренбург сел в автомобиль и отправился в Принстон. «Бюик» быстро мчался по шоссе, и Эренбург мог видеть проносившиеся мимо него пейзажи Новой Англии. Эти места запомнились ему как «наиболее похожие на Европу на всей территории Штатов». «Бюик» остановился у маленького двухэтажного домика из серого камня с зелеными створчатыми ставнями, похожего на те, что можно встретить в кантонах немецкой Швейцарии. И весь Принстон, университетский тихий городок с его готикой, чем-то напомнил Оксфорд или Кембридж. Он сказал об этом Эйнштейну. Тот молча кивнул головой, и Эренбург уловил в этом кивке-и в выражении усталых, грустных глаз чувство большой тоски по старым покинутым камням Европы. Они смотрели друг на друга — советский писатель и старый ученый с иссеченным морщинами лицом, «с глазами мудреца и ребенка». Он был одет в неизменный свитер с открытым воротом, за который были засунуты два стило, забытые там, может быть, по рассеянности. Эйнштейн расспрашивал своего гостя о побежденной Германии, о настроениях ее простых людей. Ясно было, что он искал ответа на мучивший его вопрос: насколько глубоко проникла язва гитлеризма в сердце народа, которому еще суждено — будет сказать веское слово в судьбах мира. Они беседовали в комнате на втором этаже — огромное окно во всю стену открывало вид на уходящий вдаль зеленый простор. Груды бумаг и книг громоздились на большом столе. Полки с книгами вдоль стен от пола до потолка. Портреты Фарадея и Максвелла. И коллекция хорошо обкуренных трубок, напомнившая гостю ту коллекцию, которую хранил он сам в Москве, на улице Горького… И еще, что заметил Эренбург, это отпечаток какой-то грустной запущенности, оброшенности, лежавшей на этом доме и тех, кто жил в нем. Все было на месте и в то же время что-то словно отлетело. «Дух дома», genius loci, как бы покинул эти стены, и мало что осталось тут от милой немецкой «гемютлихкейт», от уюта, которым так заботливо окружала своего мужа Эльза Эйнштейн в Берлине…
— Я был и продолжаю оставаться другом России, — сказал, прощаясь с Эренбургом, Эйнштейн. И добавил — А это не так просто сейчас, когда все это происходит вокруг… — И он показал неопределенно рукой в пространство.
Это было не так просто! Отравленные перья холодной войны каждый день и каждый час, источали ненависть и ложь со страниц утренних и вечерних газет. От них не отставали стратеги войны атомной. 13 июня сорок шестого года банкир Бернард Барух, отдуваясь и отирая пот с одутловатого лица, огласил перед комиссией Объединенных Наций свой «план», отредактированный предварительно в узком кругу руководителей концернов. Передать в руки Дюпона и Моргана контроль над мировыми, в частности советскими, ресурсами урана, посадить людей Моргана и Дюпона в качестве хозяев на советские рудники и заводы — так выглядело это поистине остроумное «предложение»!
— Что они делают, эти господа из государственного департамента! — воскликнул Эйнштейн. — Если это называется у них дипломатией, то что такое шантаж?
Гарольд Юри сказал:
— Надо взять назад план Баруха. Его искренность более чем сомнительна…
Один из принстонских физиков спросил Эйнштейна:
— Вы напишете об этом? Мы ждем от вас слова правды…
Он был занят как раз в эти дни теоретической работой, которая была для него завершением полувека жизни, — ему нелегко было отвлечься в сторону, но он сказал себе, что должен сделать это.
Он так и поступил.
«Атомная война или мир?» — назывались две статьи, которые он написал одну за другой и передал для опубликования в бостонский «Атлантик Манели».
«Эта страна (США), — писал он, — сделала предложение о международном атомном контроле, но на условиях, неприемлемых для русских… Те, кто осуждает русских за отказ, не должны забывать, что мы сами добровольно не отказались от употребления атомных бомб».
«Я считаю, что американская политика является ошибочной… Накоплять запасы атомных бомб, не давая при этом обязательства воздержаться от их применения первыми, — значит эксплуатировать факт обладания бомбами для политических целей. Может быть, надеются таким путем вынудить Советский Союз к принятию американского плана? Но метод устрашения лишь углубляет противоречия и усиливает опасность войны!»
4
В Принстон прибыло официозное лицо и попросило разрешения переговорить с Эйнштейном. Явившись к нему в дом, «лицо» сообщило, что в кругах Вашингтона «с удивлением и тревогой» следят за негативной позицией, занятой знаменитым ученым по отношению к «усилиям американской дипломатии» в области атомной проблемы.
— Мы делаем все для достижения соглашения.
Но русские неуступчивы, с ними невозможно вести дела!..
— В девятнадцатом году не русские были в Орегоне и Небраске, а американские солдаты топтали поля Сибири! — откликнулся Эйнштейн.
— Наша могучая стратегическая авиация является единственным сдерживающим средством против русской агрессии…
— Наша могучая стратегическая авиация аккуратно срезала с фундамента дом владельца мучной лавки в Ульме, где, увы, пришлось когда-то запищать мне самому! Наша авиация превратила в груду развалин мирный город Кассель, и это, заметьте, за несколько недель до конца войны. В подвале одного из домов в Касселе, полузасыпанный щебнем и известкой, лежал в тот день Макс Планк… Известно ли вам, кто такой Планк? Неизвестно? Это один из величайших гениев науки нашего столетия. Ему было восемьдесят семь лет, когда он спасал свои старые кости от наших воздушных, гостинцев… Гестапо казнило его сына Эрвина. Планк умер недавно, как мне сообщили, в американской оккупационной зоне. Как вы можете догадаться, у него сложилось не очень-то вдохновляющее впечатление от действий нашей могучей стратегической авиации!