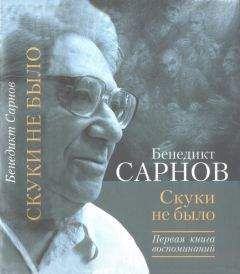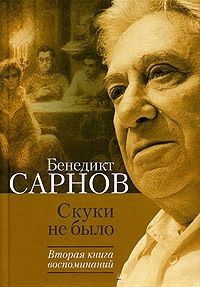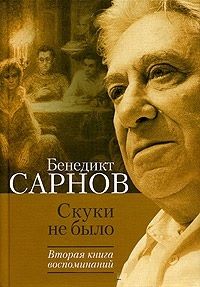Бенедикт Сарнов - Красные бокалы. Булат Окуджава и другие
– Жизнь жестче.
Какие суровые жизненные обстоятельства вынудили ее печатать Лимонова, я так и не понял. Но требовать дополнительных разъяснений не стал.
Моим советом не раздувать из искры пламя Марья, конечно, пренебрегла и раздула эту искру до масштаба чуть ли не мирового пожара. Подняла на ноги всю литературную Москву, и в результате появилась большая статья в «Независимой газете», в которой Воронели (и муж и жена) были названы провокаторами. Потом еще одна – в «Книжном обозрении». А потом – еще, и еще, и еще… А в заключение с большим (огромным, на всю газетную полосу) интервью выступила сама Марья.
Интервью кокетливо называлось «Прогулки с Розановой» (намек на «Прогулки с Пушкиным»?) и подписано было так: «Прогуливался Дмитрий Быков».
О том, что она там наговорила Быкову во время этих их прогулок, я даже в простой перечислительной форме упоминать не стану. Коротко задержусь лишь на одном из затронутых ею щекотливых сюжетов. И только лишь потому, что главным героем этого сюжета оказался я сам:
...– Вы прочли «Двести лет вместе»?
– Нет еще. Мне не очень интересно. Об отношении Солженицына к евреям я в общих чертах знаю. Я сама хочу сейчас писать о еврейском вопросе, хотя меня и отговаривают. Почему-то это считается опасным для репутации.
– Но и вы, и Синявский, насколько я знаю, – юдофилы?
– Конечно… Жизнь наша сложилась так, что почти всегда мы находились в плотном еврейском кольце. Лишь иногда – очень редко – я ловила на себе высокомерный взгляд, обозначающий мою принадлежность к низшей расе. Недавно мне случилось обсуждать с Бенедиктом Сарновым одну публикацию в «Вопросах литературы». И я с изумлением обнаружила, что известный московский стукач Сергей Хмельницкий, имевший удовольствие родиться евреем, ему ближе известного лагерника Синявского, имевшего наглость родиться русским. Я не люблю, когда меня и все русское рассматривают с брезгливым высокомерием.
(Консерватор. 2003. 25 апреля – 1 мая)
Прочитав это, я прямо рот разинул. Ну, Марья!..
Отношения наши в то время были уже весьма натянутые. О том, как и почему они натянулись, я отчасти уже рассказал и к этой теме еще вернусь. Пока же скажу одно: ничем больше она как будто уже не могла меня удивить. Но такого «злого хулиганства» я не ждал даже от нее.
Понять, почему из всех фантастических сюжетов, которые она могла сплести вокруг моей фигуры, она выбрала именно этот, было нетрудно. Ей хотелось укусить меня как можно больнее. И она знала, что никакая другая, стократ более изобретательная и злокозненная ложь не сможет ужалить меня больнее, чем эта.
В делах такого рода ей не было равных, и об этом я мог бы рассказать подробнее. Но я, кажется, и так уж слишком далеко забежал вперед. Лучше вернемся в Париж 1988 года, когда мои отношения с Андреем и Марьей были еще самыми мирными. Можно даже сказать, любовными.
Кроме Синявских со старыми, еще московскими друзьями
встречаться там, в Париже, мне было вроде уже не с кем.
Вика год как умер. А Володя Максимов… Но об этом чуть позже. Сперва расскажу о других моих встречах с парижскими русскими.
Дирижировал ими Булат.
Начал он с того, что повел меня в редакцию газеты «Русские новости», где мы встретились с Аликом Гинзбургом – тем самым, который «Гинзбург и Галансков»; я немного знал его по Москве. Но самому, без Булата, мне и в голову бы не пришло встречаться в Париже с полузнакомым знаменитым диссидентом, защищая которого мои друзья Биргер и Балтер лишились своих партийных билетов.
Потом мы с Булатом долго сидели в каком-то маленьком кафе; третьим с нами был старый поэт, один из последних осколков первой эмиграции Кирилл Померанцев. С ним Булат познакомился давно, во времена самых первых своих приездов в великий город, а теперь вот познакомил со стариком и меня.
Кирилл Дмитриевич рассказывал нам про Георгия Иванова, с которым дружил и которого считал своим учителем.
Потом, естественно, мы заговорили о том, что происходит в несчастном нашем отечестве, о том, что с ним теперь будет, как повернется его – а значит и наша – судьба. И тут старик прочел нам свой только что, буквально на этих днях сочиненный стишок:
Не Горбачёв страною правит
И не Центральный комитет,
И перестройка не исправит
Итог семидесяти лет.
И гласность делу не поможет,
Труби хоть тысячами труб,
Пока над всем и вся вельможит
Набальзамированный труп.
Стишок показался мне наивным. По разным причинам, но, помимо всего прочего, наверно, еще и потому, что поминутно повторявшиеся тогда слова «перестройка» и «гласность» все-таки слегка меня опьяняли. (Как это – «гласность делу не поможет!» Вот ведь и я – столько лет и, казалось, уже на всю оставшуюся жизнь «невыездной» – здесь, в Париже. Мог ли я вообразить такое не то что лет пять, но даже всего лишь год тому назад?)
Так и остался я тогда при убеждении, что ничегошеньки этот старый эмигрант в нашей жизни не понимает.
Но сейчас, когда с тех пор, как мы сидели втроем в том кафе, прошло уже ни мало ни много четверть века, отыскав и перечитав этот старый стишок, я подумал о нем теми самыми словами, которыми тот, чей «набальзамированный труп» по сей день лежит в Мавзолее, высказался о понравившемся ему стихотворении Маяковского: «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно».
Знакомил меня Булат
и с какими-то другими парижскими русскими. Но ни разу – ни он, ни я – не вспомнили о том, к кому, казалось, должны были бы кинуться сразу, в самую первую очередь: о Володе Максимове. Ведь что бы там ни было, с ним у меня было съедено куда больше пудов соли, чем с Фимой Эткиндом или даже с Синявскими. Ну а уж с Булатом Володя был связан узами самой тесной и нежной дружбы.
Но о том, чтобы встретиться с ним, – а тем более о том, чтобы с ним захотел встречаться Булат, – не могло быть даже и речи.
За год или, может быть, за два
до этого нашего приезда в Париж Булат однажды сказал мне:
– Ты не слыхал? Володька Максимов написал про меня в «Континенте», что я – агент КГБ.
Я прямо задохнулся:
– Не может быть!
– Да, да, представь, так прямо и написал. И напечатал.
Лицо Булата, когда он сделал мне это сообщение, было бесстрастно. Но это показное безразличие меня не обмануло: чудовищная выходка бывшего друга наверняка больно его задела.
Ну а уж обо мне и говорить нечего: в отличие от Булата, мне никогда не удавалось сохранять хотя бы видимость бесстрастия.
Я знал, что Максимов – там, в Париже, – уже кого только не обвинял в связях с «Галиной Борисовной» (так ласково мы меж собой именовали нашу гэбуху).