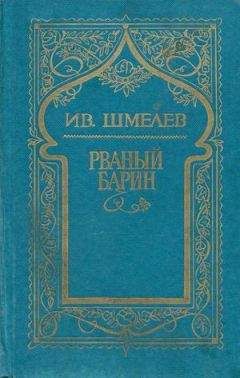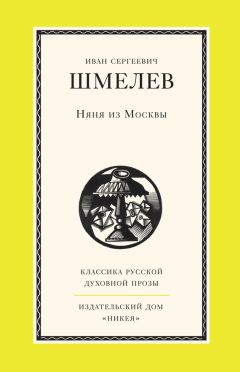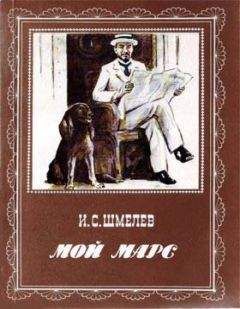Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание
Ильин успокаивал Шмелева, 9 марта 1935 года он писал ему: «Отзыв Гадомовича — до скандальности ничтожен и беспомощен. Плюньте, дорогой, не рыагируйте»[431].
«Назойливое» чувство родины не помешало переводу романа на немецкий язык, а вслед за этим последовали хвалебные отзывы критиков Германии, Австрии, Швейцарии. Однако вскоре книгу в Германии запретили — она не соответствовала культивировавшемуся немецкому духу. Очевидно, «назойливым» чувством родины.
В начале января 1934 года Шмелевы, по дороге к Кульманам, встретили Бунина — случайно столкнулись с ним в вестибюле. Шмелев увидел его, и сердце наполнилось жалостью, потому что перед ним стоял «обескровленный старичок», и пронзила мысль: «Не умеют русские беречь себя и свое. Жгут — сгорают, дают себя жрать за пустое словцо и жест». Бунин откинулся к стене и, глядя на Ольгу Александровну, спросил: «Нет, что-о-о он обо мне ду-ма-ет?!» Потом посмотрел на Шмелева: «Да, я… свинья, свинья…!»[432] Бунин был пьян. Он обещал заехать через три дня и, действительно, заехал, но не застал Шмелева дома.
Позже Шмелев навестил Веру Николаевну Бунину в отеле Vernet, она позвонила Бунину, который остановился в отеле Majestic, недалеко от Vernet. Шмелев вспоминал: «Пришел, больной, сел — упал в пальто в постель… и сидел, истомленный-больной. И я чуть не заплакал. Мысль: вот, и прошла жизнь почти… не-че-го (ему) больше ждать. Старость его жалко стало. <…> Все — итоги „пира“. Я не думал, что в такие годы можно было так бешено заликовать и продолжать ликовать 2 мес<яца>! Ведь за эти 2 мес<яца> он у себя сжег 2–3 года жизни»[433]. Было жаль Бунина и было неприятно его окружение, прежде всего эта неприязнь относилась к «блудослову», «хи-тря-ге», «плу-уту»[434] Федору Степуну.
Бунин, великолепный и великодушный, ассигновал писателям эмиграции для их материальной поддержки тридцать пять тысяч! Шмелеву выделили из этого фонда три тысячи, чему он был, конечно, рад — деньги дали ему возможность расплатиться с долгами и просто передохнуть.
Нуждался он постоянно, потому 10 марта 1934 года состоялось его первое за одиннадцать лет эмиграции литературное чтение ради денег. Читал он первые пять глав «Няни из Москвы» и другие произведения. Аудитория, 500 человек, приняла его благодарно. Ему рукоплескали, его не отпускали с эстрады — и он был счастлив. Помимо необходимого для уплаты долгов гонорара в 3100 франков, он был морально удовлетворен и получил великое утешение. То была победа над обстоятельствами.
Воля к преодолению обстоятельств или ощущение своего безволия — этот выбор был перед ним всю его жизнь, начиная с Крыма. 3 января он жаловался Куприну на свои немощи и «черное, подавленное душевное состояние»[435]. 10 марта испытал душевный подъем, а потом тяжело заболел: анемия, истощение, головокружение. Он пролежал неделю, Ольга Александровна впрыскивала ему мышьяк со стрихнином и фосфором. Он пил лошадиную кровь, но этим только вызвал боли в кишечнике. В мае состоялся осмотр у известного хирурга Du Bouchet, полуфранцуза-полуамериканца, заведующего Американским госпиталем в Найи. Выяснилось, что открылась старая язва. Иван Сергеевич вынужден был лечь в Американский госпиталь, пробыл там пять предоперационных суток, но операции избежал…
С ним произошло чудо. Не последнее и не первое в его жизни. С годами он стал особенно отмечать в своей судьбе помощь небес, высшее заступничество. Заметим, что и помощь Бунина в определенном смысле — нежданное чудо. И сейчас ему было знамение. Еще до отправки в госпиталь он увидел сон о том, как на рентгеновских снимках вместо «Jean Chmeleff pour Dr. Brulé» (Иван Шмелев для др. Брюле) теми же тонкими белыми линиями было начертано по-русски «Св. Серафим». Проснувшись, подумал, что он — под Его кровом. Было такое чувство, будто святой рядом, причем явственно: «Никогда в жизни я так не чувствовал присутствие уже отшедших…». Так написал он в воспоминаниях «Милость преп. Серафима» (1934). Подробно этот случай он описал и Ильину.
С июля Шмелевы, вместе с Ивом, сыном Юлии Александровны Кутыриной, избавляясь от городской духоты, по совету Деникиных, отдыхали в горах Allemont, во французских Альпах. С отъездом помогли Кульманы. После болезни и прочих неурядиц Аллемон был подарком судьбы. Жили неподалеку от Деникиных. Шмелева умиляли русские пейзажи Аллемона, все эти колокольчики и подосиновики, земляника, черника, которую они с Ольгой Александровной сушили для киселей. О родном ему напоминала и метель в горах. Поражало ощущение первозданности. Шмелев даже обзывал себя дураком за то, что десять лет провел в Капбретоне. К тому же жизнь тут на 25 % дешевле!
Надо отдыхать, лечиться, преодолевать недуг и душевный упадок. Он внушал себе эту мысль. Он уговаривал себя. Да и письма Карташева о том же: всеми силами, духовными и физическими, надо пережить Сталиных, Молотовых, Кагановичей, всех убийц, всех едящих и пьющих с ними. Надо, но… очень слаб. Однажды во время гулянья его потянуло в пропасть. Произошло это исподволь, во время головокружения. Возможно, сказался сильный астигматизм.
Воздух Булони, куда Шмелевы вернулись осенью, теперь казался невыносимым. Где та земля обетованная?.. Он бы поехал в Югославию, как он говорил — к сербушкам, там у него есть читатели. Но там у него нет близкого человека. Близкий человек в Германии, но в Германии близкому человеку жить стало опасно. Осенью 1934 года Ильин, профессор Русского научного института в Берлине, был уволен нацистами с работы, поскольку отказался преподавать по их программе. Обвинили его и в том, что он не поддерживал планов об отделении Украины (этому вопросу были посвящены и допросы Ильина в гестапо), что не насаждал идеологии нацистов среди эмиграции, что не вел среди студентов антисемитскую пропаганду. Ильин, действительно, полагал, что антисемитизм вреден и для России, и для эмиграции. После обвинений и таскания по допросам ему, под угрозой концлагеря, запретили вести политическую деятельность.
И ужасное положение Ильина, и убийство в Марселе югославского короля Александра I Карагеоргиевича повергли Шмелева в отчаяние. Вновь он терял силы для сопротивления, вновь рушилась вера, вновь почувствовал опустошенность, вновь решил, что мир брошен, что всё во власти случая и злой человеческой воли. Действительно, на свете счастья нет, но нет и покоя и воли. Он даже не мог читать Евангелие.
Не стремясь, как писал Пушкин, себе присвоить ум чужой, он принялся искать спасение, новые силы и новые жизненные смыслы и у Шекспира, и в мифологии, у Геродота… все-таки лучше мифология, но только не вопросы о жизни и смерти у мыслителей… В ноябре он попросил совета у Ильина: что почитать, чтобы напитало душу? Так и писал: «Лучше Гомера — не знаю. Евангелие — не могу, сейчас не могу. Хорошую старую книгу»[436]. Он вспомнил о Гете и перечитал «Фауста», но оказалось, что все наивно, все о малом: «А Фауст — дурак — пустышка! Болтун! А Мефистофель — жалкий „Приготовишка“!»[437]