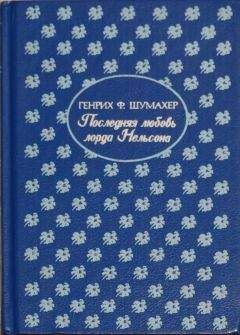Генрих Шумахер - Любовь и жизнь леди Гамильтон
Через три месяца он перевез Эмму с матерью обратно в Палаццо Сесса. Он уплатил четыре тысячи фунтов, чтобы сделать комнату Эммы достойным фоном ее красоты. Он заказал лучшее из того, что можно было найти в магазинах Лондона: обитую шелком мебель, гобелены, дорогие шпалеры, подлинный японский фарфор, тяжелые ковры, замечательную резьбу по дереву. Задняя стена угловой комнаты, окнами выходившей на залив, была теперь покрыта большими круглыми зеркалами. Тесно примыкая друг к другу, они отражали замечательную панораму залива и его райские красоты — картины такой сказочной прелести, каких никогда еще не создавала рука художника. Необычайно оригинальным было большое помещение без окон, освещенное канделябрами из Помпеи. Здесь было собрано все, что сэр Уильям смог добыть на раскопках Помпеи. Вокруг, группами и по отдельности, стояли драгоценные вазы, пестрые рельефы, вделанные в стены, изображали живые сценки давно отшумевшего мира красоты и наслаждений. В таинственных нишах, сложенных из глыб лавы, белые статуи богов и богинь мягко выступали из полутьмы. И все это было залито торжественным светом канделябров, что придавало комнате сходство с храмом.
Сэр Уильям показывал и подробно объяснял все Эмме, опьяненный восторгом обладания такими диковинками. Он объявлял красоту единственной в мире подлинной религией, и Эмма с улыбкой внимала ему. Это была и ее религия. В ней она была и жрицей, и богиней. Но потом, когда он захотел услышать ее суждение, она не могла удержаться от насмешки:
— Кого вы любите больше, сэр Уильям? — ответила она вопросом на вопрос. — Меня или свои красивые комнаты?
Вместо ответа он преклонил перед ней колено. И так как она милостиво протянула ему руку, он позволил себе откинуть рукав ее платья и поцеловать то местечко на ее руке, где сквозь отливающую шелком кожу локтевого сгиба просвечивало голубоватое сплетение жилок. От ладони до локтя… Таков был путь, который сэр Уильям прошел за эти месяцы ухаживания.
* * *Под предлогом обновления вновь отделанных комнат он устроил небольшой праздник. Были приглашены близкие друзья, высшие чиновники посольства, сановники двора и толпа художников. Обязательным условием было, чтобы женатые приходили с женами.
Эмма сомневалась в успехе. Но сэр Уильям успокоил ее. Его служащие зависят от него, художники — люди без предрассудков. Друзья уже дали согласие. А сановники двора… он сделал движение рукой, которое сказало все; Золото Индии нашло свой путь и в Неаполь.
Сэр Уильям был прав. Пришли. Дивились новой роскоши, восхищались красотой Эммы. К прочему были сдержанны. Только когда она, аккомпанируя себе на лютне, спела валлийские песни, вдохновившие в Рэнюлэ Ромни на картину, изображавшую Эмму в облике святой Цецилии, публика немного потеплела. Хвалила скромное, полное достоинства исполнение, очаровательную мелодичность молодого голоса, нежную прелесть игры. И, как и в Рэнюлэ, просили спеть на бис. Желая сделать приятное итальянцам, Эмма выбрала арию Паизьелло, извинившись, что еще не овладела прекрасным языком Данте. Потом она спела, робко, как бы опасаясь своей смелости. Успех возрастал. Исчезла первоначальная сдержанность. Гости ожидали найти гордую, заносчивую красавицу, а увидели молодую скромную девушку, которая, испугавшись громких аплодисментов мужчин, робко искала убежища в объятиях своих соперниц.
Перед концом праздника она попросила сэра Уильяма через некоторое время отвести гостей в комнату без окон, — она хочет устроить им маленький сюрприз. Она с улыбкой уклонилась от ответа на его пытливые расспросы. Когда гости вошли, комната была окутана таинственной полутьмой. Горел один — единственный канделябр. Он бросал матовый красноватый свет на мрамор стен, статуи богов и пурпурный занавес, скрывавший вход в один из гротов. Слуга в древнеримской тунике встречал вошедших и просил их встать против грота. Потом он прикрыл дверь. В комнате царило полное ожидания молчание. Вдруг занавес разлетелся в стороны. На черном фоне грота в спокойном свете канделябра явилась фигура сидящей женщины. Драпированные одежды, спадающие шали придавали ей торжественную серьезность. В правой руке, прихватив ею палочку для письма и сверток пергамента, она держала опирающуюся на колени каменную скрижаль, обращенная внутрь сторона которой была покрыта причудливыми письменами. Левая рука, отведенная в сторону, казалось, подчеркивает возвышенным жестом силу и значение какого-то фатального вопроса. Из выреза платья над полной грудью, сияя ослепительной белизной, поднималась великолепно вылепленная шея. Огромные, исполненные мудрости голубые глаза вопрошающе были устремлены вверх, будто там, в вышине невидимого неба восседало на троне божество, которое позволит им заглянуть в закрытые от людей дали будущего.
— Сибилла из Кум, — прозвучал голос слуги. — С берегов Кампании поднялась она на вершину Везувия, чтобы выслушать от небожителей мудрые речи и предсказание судьбы человечества.
Занавес медленно сдвинулся, чтобы сейчас же открыться снова, опять показав охочим до красоты глазам итальянцев родные их сердцу картины. Эллинская флейтистка сменялась помпейской танцовщицей, за той следовала садовница из виноградников Позилиппо. И каждая живая картина сопровождалась взрывом восторга.
Когда Эмма в одежде Сибиллы появилась потом среди гостей, все собравшиеся были в упоении. Мужчины целовали ей руку, женщины обнимали ее безо всякой зависти, с энтузиазмом, присущим страстным южным натурам.
Только сэр Уильям вел себя сдержанно, опасаясь за репутацию Эммы. Но глаза его исподтишка следили за каждым ее движением. После ухода гостей она поблагодарила его. Праздник открыл ей пусть в общество Неаполя. Но сэр Уильям едва слышал ее. Как безумный, стал он вдруг умолять ее разрешить ему хоть один поцелуй в ее полную, мягко колышущуюся при дыхании грудь, ревниво укрытую платьем от его взглядов. Эмма холодно отвергла эту просьбу. Единственное, что она ему позволила, — снять с ее головы шаль, повязанную в виде тюрбана, и на несколько секунд погрузить лицо в сверкающую волну ее рассыпавшихся волос. Он испытывал танталовы муки. Над его головой простирались ветви, усыпанные золотыми плодами, у ног его журчал ручеек, но он был проклят и погибал от голода и жажды…
В один из первых дней марта сэр Уильям вернулся домой возбужденный. Он встретил Филиппа Хакерта, придворного королевского художника, который показывал достопримечательности Неаполя двум иностранцам: Тишбейну, известному немецкому художнику, живущему в Риме, и Гёте, тайному советнику и премьер-министру Веймарского герцога. О Тишбейне Эмма слышала от бывавших в Палаццо Сессо художников, но о Гёте она не знала ничего. Сэр Уильям постарался объяснить ей значение этого человека. Он был великий поэт, автор «Страданий молодого Вертера». Его слава уже перешагнула тесные границы родины. Во время его путешествия по Италии просвещенное общество Рима приняло его с распростертыми объятиями. Тишбейн написал его портрет, и знаменитая Ангелика Кауфман предоставила в его распоряжение свой дом. Теперь его приезд в Неаполь тоже произвел сенсацию. И здесь он снискал широкую известность своей одухотворенной красотой и одержимостью идеями просвещения. Маркиз Филангиери, прославленный писатель, уделял ему особое внимание и был с ним уже на дружеской ноге. Князь Вальдек, который готовился здесь к путешествию в Далмацию и Грецию, не раз приглашал его к себе и своим положением и влиянием обеспечивал ему путь к тем кругам, которые вообще были закрыты для иностранцев. Гёте рассказал ему содержание своей стихотворной трагедии «Ифигения в Тавриде», о которой тонко образованный князь отозвался с восхищением. Сэр Уильям тоже во что бы то ни стало хотел принять Гёте в Палаццо Сесса. Нужно, чтобы поэт увидел Эмму и оценил волшебство ее очарования, ее грации, ее пения. Знаток человеческих душ и естествоиспытатель, провозвестник эллинистического идеала красоты должен был убедиться, что сэр Уильям Гамильтон владеет самым ценным из того, что есть на земле.