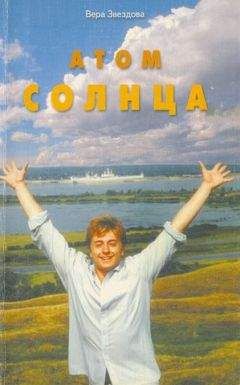Лидия Лебединская - С того берега
И вот это вот чувство вины перед Мартьяновым, когда явственно увидели они в нем остатки раба и подумали о нем снисходительно, долго еще вспоминалось Огареву. И еще вспоминались пророческие, проницательные слова Мартьянова. Были они сказаны в ответ на спокойную убежденность Герцена и Огарева, что, хотя и были они против восстания, выступать будет «Колокол» за Польшу. И своей давней дружбе с польскими заговорщиками изменять они не собираются, понимая прекрасно, что восстание заведомо обречено, что оно в России поддержано не будет, ибо большей части россиян за своими ежедневными заботами на Польшу просто наплевать, а другие еще слишком рабы, чтоб посочувствовать восставшим. Понимали они и то, что, восставшую Польшу растерзав, многие озлобятся, потому что и внутри России власть станет куда ожесточеннее. И от страха перед этой ожесточенностью впадут вчерашние либеральные говоруны в мерзкий и низкий патриотизм, и не обойтись тут без вражды и порицаний двух друзей, будоражащих из Лондона их совесть.
Мартьянов, умница необыкновенная, говорил тогда, их двоих увещевая, что они ставят под удар свой «Колокол». Неужели вы это не понимаете, господа хорошие? Ведь каждый из вас старше меня вдвое, образованней тысячекратно, а я-то, темный мужик, понимаю преотлично, что Россия отвернется от вас. Может, и не сразу, конечно, только что ни на есть самую пуповину вашей связи с Россией перережете вы, поддержав Польшу. От волнения и от убежденности говорил он с проникновенностью. Или вам не жаль дела вашей жизни? Он так полюбил их за это время, так верил им, уважал. Огарева особенно, ибо не любил шуток Герцена и побаивался его, Огарева же за мягкость боготворил.
Часто вспоминал потом Огарев пророческие слова Мартьянова. Меньше стало корреспондентов, много было возмущенных писем, статей против них в русской печати (сверху сняли запрет на их имена), поливали их грязью пресмыкающиеся коллеги. Нити, связывающие их с Россией, на глазах тоньшали и рвались. И свои тогдашние слова вспоминал. Они были просты и естественны. Выслушав монолог Мартьянова о грядущих бедах «Колокола» и их личных, очень спокойно спросил его тогда Огарев:
— Только почему, мой милый, всего того, что вы сейчас перечислили, кажется вам достаточным, чтобы совести своей изменить?
Часть третья
Времена ошибок и потерь
Глава первая
1
Блистательное, головокружительное и безоблачное будущее с самого рождения ожидало князя Петра Владимировича Долгорукова, отпрыска самой древней в России аристократической фамилии. Она вела свое начало от Рюрика, прямого потомка князя Михаила Черниговского, некогда казненного Батыем и приобщенного к лику святых христианских мучеников.
У Петра Владимировича Долгорукова (на три года моложе он главного нашего героя, то есть родился в 1816 году) было все: имя, состояние, связи. А когда вырос и оформился, прибавилось еще и образование, ум и способности весьма незаурядные. Было тщеславие и честолюбие (но оно помогло бы в деятельном сотворении карьеры), было несколько «но» — словно облачка на блистающем небе: самонадеянность, несдержанность, заносчивость, неумение долго ладить с людьми. Облачки эти быстро разрослись в тучу, заслонившую сияющий горизонт. Кончив прекрасно Пажеский корпус, зачисленный в камер-пажи, был Долгоруков спустя всего несколько месяцев за какую-то очень уж непростительную провинность (дерзость? юное хулиганство?) исключен. Придворная карьера прервалась. Бурная молодость, прожигание жизни и состояния в кругу «молодых людей наглого разврата», как впоследствии писали о нем, похмелье и поиск жизненного пути.
Петр Владимирович был маленького роста, скор на злую насмешку, ни одну язвительную мысль при себе удержать не мог. Быстро и незаметно стал он одинок и нелюбим всеми. Еще и прихрамывал, и «Колченогий» стало его заглазной кличкой. Князь был обидчив и мстителен — ситуация усугублялась. Надо было между тем думать, как заморить червяка тщеславия, неустанно грызущего его изнутри. Следовало искать путей необычных и нетрадиционных для потомка княжеского рода. Ощутил интерес к истории. Вскоре выпустил книгу, встреченную всеобщим одобрением, — генеалогическое исследование «Российский родословник». Двадцать три года, помилуйте, и такая широта познаний, и в такой изумительной области. Особенно усердствовали фамилии, древность которых была желательной без должных к тому оснований, о своих надеждах, возлагаемых на молодого князя, они пели ему дивными голосами. Князь же кипел презрением и желчью, ибо доброта, великодушие или снисходительность не входили в число наследственных черт. Выпущенный за границу (ибо явно образумился слегка), он отправился погулять во Францию. Лучшие дома, закрытые для множества других людей, гостеприимно распахивались перед ним — сказывалась прямая причастность к древнейшему княжескому роду. Чрезвычайно высокие умы и личности наперебой одаривали его вниманием — это уже за личные заслуги, ибо книга его обрела известность. Как потом рассказывал Долгоруков (хотя правдивость не входила в число его личных достоинств), будто бы сам Шатобриан сказал ему однажды с пафосом: «Князь! Дворянству русскому следовало бы соорудить вам памятник: до вас никто из нас ничего не знал об русском дворянстве». Сказаны ли были именно эти слова или им подобные и другими людьми — не суть важно. Только восхваления явно вились вокруг молодого честолюбца, вмиг решившего поразить мир еще одним незаурядным произведением. На этот раз под псевдонимом, ибо содержание книги было, мягко говоря, чревато для автора неприятностями. Так появилась в Париже книга некоего графа Альмагро (на французском языке) под названием «Заметки о главных фамилиях России». Разразился невидимый, словно подземный пожар, скандал. Книга привела в ярость самые разные слои верхушки российской власти. С преспокойной наивностью в ней сообщалось о том, например, что Романовы, всходя на престол, обязались во всем советоваться с представителями общества, то есть допускать при себе нечто вроде Земского собора, ограничивая самовластие, но потом обещание нарушили. Звучали намеки и на череду цареубийств, позорные и запретные пятна недавней русской истории, тщательно стираемые. Описывались факты тиранической жестокости Петра, что никак не поощрялось в гласной российской истории, ибо самодержцы, как известно, всегда милостивы, великодушны и нравственны. Словом, достаточно материала для немедленного привлечения мальчишки к ответу. Кроме того, многие высокопоставленные лица были обижены еще и тем, что фамилии их не упоминались вовсе, словно не они составляли вековечную славу российской истории.