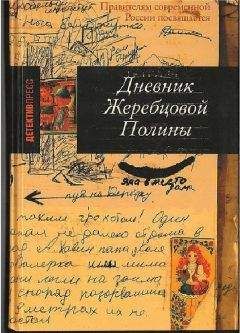Василий Катанян - Современницы о Маяковском
Но дома у него не было. А он был нужен ему, этот дом. Недаром одну из своих книг он надписал Т. Яковлевой так:
"Этот том
Внесем мы вместе в общий дом".
Видимо, для этого "общего дома" он и строил себе отдельную от Бриков квартиру.
Шкловский в своей книге "Толстой" пишет о Тургеневе:
"…Сейчас у него был роман с Виардо, которая его, Тургенева, не столько любила, сколько допускала жить в своем доме…"
Если бы я не знала, что это написано о Тургеневе, я думала бы, что это о Маяковском.
А вот что писал Асеев в книге "Зачем и кому нужна поэзия":
"…Он сторонился быта, его традиционных форм, одной из главных между которых была семейственность. Но без близости людей ему было одиноко. И он выбрал себе семью, в которую, как кукушка, залетел сам, однако же не вытесняя и не обездоливая его обитателей. Наоборот, это чужое, казалось бы, гнездо он охранял и устраивал, как свое собственное устраивал бы, будь он семейственником. Гнездом этим была семья Бриков, с которыми он сдружился и прожил всю свою творческую жизнь".
Унизительно читать про эту кукушку! Но слова Асеева — это концепция, которая устраивала многих.
Однако, как выяснилось, Осип Максимович понимал шаткость этого объяснения. Катаняна поразила фраза, сказанная ему в Негорелом, куда он ездил встречать возвращавшихся из-за границы Бриков 16 марта 30-го года. Ося сказал, что Володе в его 36 лет уже нужен был свой дом и своя семья…
В русской писательской среде я знаю несколько аналогичных примеров — Некрасов и Панаевы, тот же Тургенев и Виардо, Мережковский, Гиппиус и Философов, Шелгуновы и Михайлов… Никому в голову не приходило считать такого рода союзы утверждением новых отношений, нового быта.
Что же касается Маяковского, то известно, чем это кончилось.
--
Один человек спросил у меня: какой он был, Маяковский?
Маяковский был крупный, высокий, красивый человек. Он был красив мужественной красотой — скорее напоминал лесоруба, охотника, чем писателя. Был сложен пропорционально, но немножко медвежковат благодаря своим крупным размерам. Несмотря на это он двигался легко и танцевал превосходно. Я не видела человека более впечатляющей и запоминающейся внешности.
Он был чрезвычайно чистоплотен, брезглив и мнителен. В кармане пиджака носил маленькую металлическую мыльницу с кусочком мыла, в заднем кармане брюк — плоский стаканчик в замшевом футляре, которым пользовался в разъездах и на выступлениях. Мнителен он был с детства, с тринадцати лет, когда, уколовшись ржавой иглой, скоропостижно умер от заражения крови его отец в полном расцвете сил…
Одевался он элегантно. Все вещи его — начиная с костюма и кончая паркеровской ручкой и бумагой для писем — были дорогими и добротными.
Маяковский любил общество красивых женщин, любил ухаживать за ними — неотступно, настойчиво, нежно, пылко, своеобразно. В то же время он был деликатен, оберегал репутацию женщин и обнародовал свои отношения только в том случае, когда, что называется, имел серьезные намерения, как это было с Наташей или с Полонской.
Он был ревнив и очень нетерпелив. Если ему захотелось чего-нибудь, так вот сейчас, сию же минуту, вынь да положь, все силы пустит в ход, чтоб как можно скорее достичь желаемого.
Первое впечатление от Маяковского — ощущение доброты и силы.
Последние впечатления в начале 1930 года — мрачность, что-то отчаявшееся и ожесточенное в нем.
--
Вскоре после смерти Вл. Вл. Лиля Юрьевна предложила мне помочь ей разобрать и перепечатать архив Маяковского. Нужно ли говорить, с какой радостью я на это согласилась.
В течение нескольких месяцев я приходила в Гендриков переулок и, сидя в комнате Маяковского, за его письменным столом (!) разбирала, читала и перепечатывала на его пишущей машинке оставшиеся после него бумаги.
Записать, что было в его архиве, мне пришло в голову в 1941 году в эвакуации в Омске, во время длинных ночных дежурств на военном заводе, где я некоторое время работала секретарем-машинисткой в одном из цехов.
В числе прочих бумаг, которые я перепечатала, помню:
1 — Записные книжки за разные годы, более тридцати.
2 — Рукопись "Про это" в трех вариантах.
3 — Письмо-дневник, адресованное Лиле Юрьевне, которое писалось одновременно с поэмой "Про это".
4 — Машинописный текст с правкой Маяковского — стихи Татьяне Яковлевой.
5 — Предсмертное письмо, находившееся в деле о самоубийстве поэта, переданное Аграновым [1][3] Лиле для перепечатки на машинке. Оно было написано крупным, сумасшедшим почерком.
6 — Письма и телеграммы Лили Юрьевны к Маяковскому и все его письма к ней. Множество их записок с рисунками.
7 — Письма, телеграммы и записочки к семье, с детских лет и до последних дней.
8 — Письма и телеграммы Эльзы Триоле — частично, то, что представляло литературный интерес или отражало поездки Вл. Вл. в Париж.
9 — Письмо корреспондентки из Харькова.
10 — Письмо корреспондентки из Баку.
11 — Письма и телеграммы Марии Щаденко [14] на плотной голубой бумаге. Ценный комментарий к "Облаку".
12 — Письма и телеграммы Н. Кальма[15].
13 — Письмо на листке магнолии, присланное Н. Брюханенко из Крыма.
14 — Письма и телеграммы Татьяны Яковлевой из Парижа.
Письма остальных корреспонденток были мною разобраны по датам, но не перепечатывались.
Из того, что эти письма хранились (иногда по многу лет), я заключила, что Маяковский дорожил своей любовной перепиской.
Несколько слов о письме-дневнике времени написания "Про это". Это документ необычайной важности. Написано оно на той же сероватой, большого формата, бумаге, сложенной тетрадью, на какой написана и вся поэма. Это письмо писалось каждый день, пока Маяковский работал над поэмой, и из этого дневника выросла не только эта поэма, но и некоторые последующие стихи. Например, "Юбилейное":
Было всякое:
и под окном стояние…
И т. д.
Это стояние и "тряски нервное желе" очень точно описаны в дневнике.
Когда, разложив перед собой этот дневник и рукопись поэмы, я читала все подряд — у меня было странное ощущение, будто я совершаю святотатство, заглядываю в такие глубины творческого процесса, куда никто не допускается.
Письмо-дневник является также необычайной силы человеческим документом, отражающим тяжелое душевное состояние поэта во время этой работы. Некоторые страницы закапаны слезами. Другие страницы написаны тем же сумасшедшим, непохожим на обычный, почерком, каким написана и предсмертная записка. У меня было впечатление, что он несколько раз был близок к самоубийству во время написания поэмы…