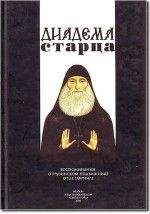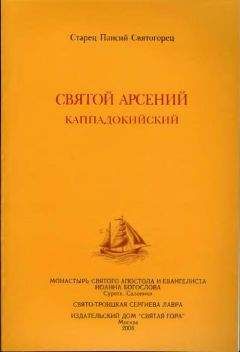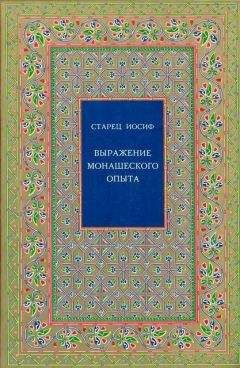Виктор Чернов - Записки социалиста-революционера. Книга 1
Но самым убийственным доказательством было личное выступление Ивана Трофимовича. Когда для расследования явился исправник с усиленной стражей, уполномоченный вызвать для подкрепления в любой момент воинский отряд, Попов, не жалея себя, на сходе принес публичное покаяние во всем, что делал вместе со своими прежними друзьями. Припертый к стене, уличаемый с документами в руках, Качалин совершенно потерялся. Кое-кто из его помощников, струсив, стали сознаваться. При виде этого ободрились самые робкие и смиренные мужики и довершили падение своего мучителя. С необыкновенной ловкостью Щербинин выставил всю агитацию, развитую группой, как простую защиту закона. Свою роль сыграл он великолепно. Попытки Качалина доказать, что под этим кроется крамола, что в обращение пущены нелегальные книжки и такие же лозунги, разбились о единодушный «заговор сочувствия» всего села. Революционная организация в деревне — по тому времени (1896–1897 г. г.) была вещь настолько небывалая, что показалась исправнику злостной выдумкой уличенного плута. Качалину оставалось только хвататься за земского начальника и его покровительство: «вот Ерема стал тонуть, Фому за ногу тянуть».
Результат превзошел все самые блестящие ожидания. Вместо расследования о бунте и агитации, исправник привез в Тамбов доклад о злоупотреблениях по службе, хищениях, подлогах и превышениях власти… В итоге — распоряжение об отстранении Качалина от службы без права поступления и выговор земскому начальнику.
Не наказанным оставался только один из всей шайки: местный помещик. И вот с головой, вскружившейся от успеха, крестьяне стали говорить о том, чтобы потребовать от него немедленного выезда в город, а землю его распределить между собою. Самые робкие и темные безудержно требовали этого шага. «Сами же нас разбередили, а теперь как до дела, так вы в кусты, — кричали они более сдержанным и осторожным «братчикам». — Так-то вы? А кто говорил: что земля не дело рук человеческих, и что поэтому никто не может ее присваивать? Кто говорил, что она — общая мать кормилица, что ею нельзя барышничать, что нельзя загораживать к ней доступ родным ее детям труженикам? Коли помещичье владение неправое, — долой помещика, туда же его, куда сбросили Пересыпкина и Качалина».
Сырые непосредственные умы темной массы от общей мысли перескакивали прямо к делу, не соразмеряя целей и средств, не взвешивая препятствий, наивно веруя в возможность добиться «царского распоряжения» везде, где за них — сущая справедливость. «Братчикам» приходилось туго. С одной стороны было ясно, что аграрные беспорядки кончатся расправой, которая унесет все плоды только что одержанной победы. С другой стороны, было не особенно приятно из передовых вожаков толпы, превратиться в живые тормозы движения, расхолаживать и призывать к терпению и осторожности. Чувства и мысли «братчиков» раздваивались и порой брал верх соблазн нового выступления, игры ва-банк, проникнутой своеобразным «героизмом отчаяния». Мне с Добронравовым пришлось укреплять их в занятой с самого начала позиции. Самым азартным и неукротимым был, конечно, Иван Трофимович Щербинин, наоборот, раньше и прочнее всех утвердился на том, что идти на захват земли сейчас преждевременно; что по всей России крестьянство еще далеко не готово к восприятию такого призыва действенным примером, да и сами инициаторы нуждаются в том, чтобы духовно и организационно окрепнуть. С крестьянами пришлось таки повозиться, но в конце концов все обошлось благополучно.
Между тем, пропаганда путем бесед и книжек давала тоже свои результаты. Добронравов познакомил меня с кружком крестьянской молодежи, упивавшейся «нашею летучей библиотекой». Бр. Зайцевы, Концов, Щербаков и несколько других производили прямо удивительное впечатление. Способные, вдумчивые, одушевленные, непосредственные — они были, словно свежие полевые цветки, всем существом своим жадно тянущиеся к солнцу и раскрывающие свои лепестки его живительным лучам. И этим солнцем была правда социализма и революции. Было так радостно наслаждаться ароматом этих молодых душ, чистых и открытых во всей своей девственной непосредственности. Они немедленно образовали второе Павлодарское братство, пока только подготовлявшееся к действиям. Они считали себя как бы рекрутами второго призыва, ожидающими, когда падет или будет разорван первый строй, чтобы стать на его место.
Стоит отметить одну бытовую особенность: возрастной состав революционеров в деревне здесь, как и везде, был значительно выше, чем в городе. Революцию вел вошедший в лета крестьянин — средняк; молодежь терпеливо ждала своей очереди. Так, например, когда Щербинин впервые предложил всем подписать «клятвенную присягу» в верности делу, то из двух братьев подписывался только старший, и его подпись, как «большака», считалась данной и за него, и за младшего — так же, как водилось в мирских приговорах.
С большим сожалением покидал я Павлодар, таким ярким красочным пятном врезавшийся в мою память, хотя и не думал, что почти никого из этих пионеров крестьянской революции мне больше не придется увидеть. Чувство беспредельной уверенности в них наполняла душу. Здесь не на ветер даны были тяжеловесные мужицкие «Аннибаловы клятвы» борьбы. И они сдержали эти клятвы. Вплоть до взрыва революции 1905 года Павлодар был застрельщиком движения в своем районе. По образцу Павлодарского «братства», вдохновляясь его примером, а на первых порах даже и уставом, стали образовываться, а затем принялись уже расти, как грибы, все новые и новые «братства». В 1905 году Павлодар был в открытом восстании. Его усмирили. Расправа была жестокой. Те самые смелые и великолепные деревенские парни, с которыми я по русскому обычаю крепко расцеловался при прощаньи, успевшие превратиться в большаков-домохозяев, были в первых рядах и первые поплатились. Многие погибли жестокой смертью: на смерть запоротые казацкими нагайками. Вместе с именем Ерофея Фирсина, их имена, из которых я запомнил братьев Зайцевых, Концова, Щербакова — должны быть святыми именами крестьянского социально-революционного движения, как имена его первых застрельщиков и великомучеников…
В 1898 году мы справляли «маевку», отправившись на лодках в лес. Мы попытались сделать популярной идею первомайского праздника и среди крестьян. Кое-что в этом отношении сделать удалось. Как водится, деревня все преломляла в своем сознании своеобразно. Разговоры о «маевке» расходились из наших деревенских «центров» концентрическими кругами, все слабея и слабея по мере отдаления. На дальней периферии все это отразилось «слушком», что первого мая по всей России «назначено» кем-то таинственным, но добрым и сильным, у всех помещиков отбирать и делить между крестьянами их земли.