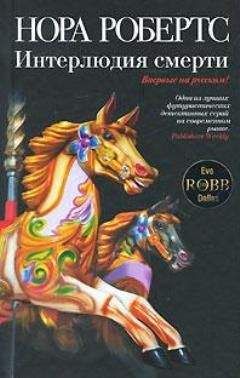Эрнст Юнгер - Семьдесят минуло: дневники. 1965–1970
Латынь проходит сквозь мир романских языков как сквозь призму, в которой она разветвляется. На Иберийском полуострове она в наиболее чистом виде сохранилась в каталонском языке, а деформировалась сильнее всего в Лузитании[405]. Кроме того обнаруживаются отголоски швабского наречия; их можно объяснить влиянием предшествующих племен, которые когда-то, еще до арабов, сюда вторгались. Родство это было замечено различными авторами, например, Штауффенбергом в Вильфлингене, который в свое время так интенсивно занимался португальским языком, что он, как еще рассказывают старые крестьяне, даже обходя сельскохозяйственные угодья, таскал с собой грамматики в переметной сумке.
Одним из его предшественников был Мориц Рапп, который, как и многие другие, перевел «Лузиады»[406] — правда, он оказался единственным, кто сделал перевод на швабский диалект. Возможно, он также относится к предтечам тех лингвистов, которые сегодня смешивают этимологии и, вероятно, постигают суть языка в его наиболее глубоких слоях. Я не берусь судить об этой материи. Однако могу подтвердить, что здесь я слышал выражения и возгласы, назальное произношение которых точно соответствует оному моих вильфлингенских соседей. Дуктус и мелос какого-нибудь языка часто говорят о кровном родстве больше, нежели вокабулярий.
Готовясь к этому короткому пребыванию, я перечитал национальный эпос португальцев, в котором больше воспевается преодоление океана, чем борьба с чужими народами. Камоэнса, погребенного здесь, можно причислить к poétes maudits[407]; верными ему до последних дней оставались только голод да раб, который под конец кормил своего хозяина, побираясь для него на улицах. Его судьба удивительным образом схожа с судьбой Сервантеса: морские сражения, темница, немилость у князей, всемирная слава после смерти. Сервантеса под Лепанто ранило в руку, Камоэнс лишился глаза у Сеуты. Как и у многих иберийских деятелей, в его биографии большую роль играет обманчивая переменчивость моря; это можно было бы сказать о Колумбе и конкистадорах.
* * *Время поджимало; мы находились в непосредственной близости от Вифлеемской башни и до сих пор не выразили почтения к ней, то есть увидели Рим, а не папу. Когда из истории, из литературы и по иллюстрациям мы давно знаем места, в которых судьба народов, их назначение не только сгущались, но также менялись и начинали превращаться в символ, то приближаемся к ним с особой тревогой, устояли ль они. Эта тревога, во-первых, вызвана тем, насколько вид их может оказаться замаранным рекламным бизнесом, прикрашенным и приглаженным благодаря lifting the face[408]. Еще глубже беспокоит ожидание, не уступили ли они великого прошлого, даже потерпев крушение, на которое обречено любое человеческое усилие, прежде всего героическое.
Должен сказать, что здесь мы не разочаровались. Потом мы вернулись к Святому Иерониму. Монастырь и церковь, а также Вифлеемскую башню нужно увидеть как единство и понять не только стилистически, но и духовно, как выдвинутый в космос бастион.
* * *Вечером у четы Альмейда на последнем этаже высотного здания. Их фамилия сопровождала нас по церквям и музеям, как фамилия «Каннитверстан» хебелевского путешественника по Голландии[409]. Ее носили вице-короли, адмиралы, основатели, учредители и донаторы. Мы развлекались, рассматривая с балкона в хороший телескоп идущие по Тежу суда и освещенные памятники, потом уселись за стол. Были поданы норвежские лангусты и прочие дары моря, среди которых я впервые увидел на блюде морских уточек[410]. Мы узнали, что особенно крупные виды появились на рынке с тех пор, как здесь в моду вошло ныряние. Вправленное в добротную инкрустацию ракообразное существо крепится на прочном основании с помощью ножки, которая только и употребляется в пищу. Unedo — жесткое и безвкусное мясо не вызывает желания повторить. Мы отдали должное норвежским лангустам, крабам и моллюскам, запивая их легким vinho rosé[411] из Сангальо, которое сняло с нас усталость. Хозяйка дома — сестра нашего юного друга Альберта фон Ширндинга; в свое время мы провели с ним несколько прекрасных дней в его небольшом замке, лежащем в глубине леса. Так что недостатка в общих воспоминаниях не было. Я подумал, что мои путешествия походят на античные в том смысле, что ведут скорее от друга к другу, нежели от местности к местности, как теперь через Базель, Цюрих и Лиссабон в Калуло во внутреннем районе Анголы.
НА БОРТУ, 20 ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА
Вот уже девять суток на борту «Анголы», португальского быстроходного парохода, несущего службу между метрополией и африканскими владениями. При отплытии мы приветственно помахали Вифлеемской башне.
Около тысячи пассажиров; кроме двух англичанок пенсионного возраста, живших в Дурбане, мы были единственными иностранцами. Все объявления, афиши и меню составлены на португальском языке; не прочитаешь другого текста, не услышишь другого слова. Поэтому вполне хватает всяких курьезов и недоразумений; нам приходится быть оглядчивыми вдвойне, как глухонемым. От меня, например, ускользнуло, что в этой поездке, что для нас стало новостью, часы переводятся как вперед, так и назад, потому что судно огибает выпуклость африканского континента и таким образом теряет часть выигранных меридианов.
Экипаж и попутчики как всегда любезны и приятны. Внимание их почти целиком ограничено человеком; лучшим доказательством этому служит то, что мы, Штирляйн и я, оказались, похоже, единственными обладателями бинокля. Фотоаппараты, естественно, видны чаще. Большинство пассажиров едет за счет правительства: офицеры, солдаты, служащие с семьями или без них. Они образуют группы, беседуют, не глядя за поручни, беседуют, флиртуют; ватаги crianças шумят или лезут на своих толстых, добродушных мамаш.
Из подробностей, бросившихся мне в глаза, я отмечаю, что имеются два вида гальюнов: лучше оборудованный для cabalheiros[412] и простой для homen[413]. Оба доступны. При этом мне вспомнился мой отец, про которого мать однажды рассказывала, что он размышлял, позволено ли ему, как ученику аптекаря, войти в «только для господ».
Если, подавая на стол, стюарды роняют вилку или кусочек хлеба, они ногой зашвыривают их под стол. Полагаю, им лень нагибаться; они предоставляют делать это слугам. В чреве корабля, как в «Бенито Серено»[414], должно быть, скрывается масса негров. Я только перед причаливанием видел, как их черные ноги с розовыми подошвами, приплясывая, сходят по доскам.