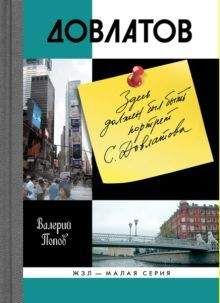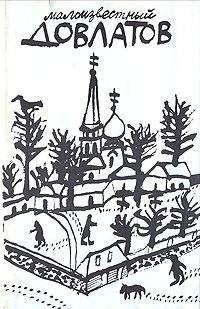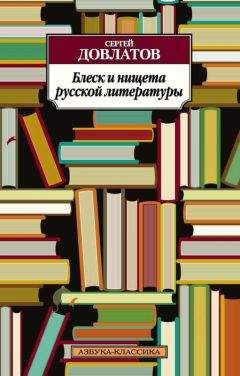Татьяна Щепкина-Куперник - "Дни моей жизни" и другие воспоминания
Первого путешествия за границу нельзя забыть, но рассказывать о нем очень трудно. Италия, античные развалины Рима, роскошные памятники Флоренции, сказочная красота Капри и поэзия Венеции — все это захватило и увлекло. А впереди — Париж. Он и пугал и манил. Столько о нем слышала, читала.
Попав в него, я жила в каком-то вихре: музеи, картины, собор Парижской Богоматери, лекции в Сорбонне, театры… Впечатлений своих от посещений Лувра, от Венеры Милосской, от Джиоконды — не стану описывать: об этом надо было бы писать целую книгу, да это давно сделано многими лучше меня. Скажу только, что в смысле искусства и истории мне открывался новый мир: так странно было своими глазами видеть все то, что раньше учила, о чем читала и мечтала. Это приобщение к мировой культуре очень много дало мне.
Одним из первых домов, куда я попала в Париже, был дом знаменитой певицы Фелии Литвин. Я с ней познакомилась еще в России, куда она приезжала петь. Это была колоссальных размеров женщина, с головкой херувима, сложением статуи Баварии и чудным голосом. Она замечательно пела вагнеровский репертуар, «Валькирию», но именно пела, а не играла, — играть мешали ее полнота и громоздкость. Любопытна ее история: в юности (я видела ее портреты работы Лемана) это была тоненькая, как тростинка, девушка, настоящая Маргарита, но с годами она начала полнеть катастрофически, и вот она встретилась с неким доктором, который обещал вылечить ее от этой неестественной полноты, но взамен потребовал, чтобы она стала его женой. Он был француз, интересный человек, с репутацией прекрасного доктора, и она решилась выйти за него. Каково же было ее изумление и отчаяние, когда она убедилась, что после брака он, пользуясь теми правами, которые французский брак давал мужу над женой, прежде всего потребовал, чтобы она бросила сцену, а затем — чтобы она прекратила все сношения с прежними друзьями и, в частности, с сестрой Селиной. Селина была лет на шестнадцать старше ее и заменила ей рано умершую мать: воспитала ее, сделала из нее артистку, дрожала за ее первые шаги, радовалась ее первым успехам; когда она узнала, что сестра выходит замуж, не только не воспротивилась этому, но радовалась ее счастью и осталась одна, мечтая, что Фелия, счастливая, радостная, будет залетать к ней и рассказывать о своем муже, о своей работе. То, что сестре было запрещено с ней даже видаться, поразило ее, как громом. Несколько лет сестры были в разлуке и прямо истерзались: муж держал Фелию буквально в плену, пока, наконец, ее терпение не лопнуло, и она бежала от него из Франции. С большим трудом ей удалось благодаря связям освободиться от этого человека, и она опять вернулась и к сцене и к сестре.
В Париже она жила в изящной небольшой квартирке, типично парижской. Белая лакированная мебель, пушистые розовые ковры, раздвижные стеклянные стены между комнатами и окна-двери, выходившие прямо в садик, где цвели розы и подстриженные шарами лавровые деревья; туда после обеда переходили пить кофе.
У нее я встречалась со многими русскими художниками, например, со стариком Ю. Я. Леманом, известным портретистом, прожившим почти всю жизнь в Париже, пережившим там дни Коммуны и, несмотря на это, говорившим с нижегородским акцентом. Хорошо помню его мастерскую, совершенно такую, как принято было описывать в романах: пятый этаж старого дома на Монмартре, огромные окна, в которые видны были крыши Парижа; стены увешаны портретами красивых женщин — Леман специализировался на женских портретах, — темнокудрые, золотоволосые, рыжие, полуобнаженные или в мехах, в бриллиантах… Необъятный диван, манекен в углу, с наброшенной на него драгоценной парчой, на столе всегда свежие розы и чай, подававшийся в средневековых кубках или венецианских бокалах… Леман писал Яворскую, и мы у него проводили много хороших часов. Встречалась я и с красивым, барственным Харламовым, специализировавшимся на детских головках, который много рассказывал мне о Тургеневе, с пейзажистом Гриценко, а также со многими французскими литераторами, между прочим, с Катюллем Мендесом и Эдмондом Ростаном.
С Фелией Литвин мы сохраняли дружеские отношения и всегда встречались в мои приезды в Париж или ее в Петербург. Помню нашу последнюю оригинальную встречу. Я ехала из Голландии в Испанию и остановилась в Брюсселе дня на два. Когда я собралась уезжать и вышла уже одетая в вестибюль гостиницы, я вдруг на доске с фамилиями приезжающих увидала: «М-м Фелия Литвин». Оказывается, она приехала накануне вечером на гастроли. Я побежала к ней в номер, чтобы хоть поздороваться и тут же проститься с ней. Застала ее еще в постели — двуспальная постель едва вмещала ее, всю в розовом шелке и кружевах, красивую, улыбающуюся, совсем похожую на огромную куклу. Она ахнула: «Откуда ты?» — «Из Амстердама!» — «А куда?» — «В Мадрид!» — «Раздевайся, будем пить кофе!» — «Не могу ни минуты — омнибус ждет!» — «Сумасшедшая!» Мы расцеловались — и это был последний раз, что я видела ее.
Катюлль Мендес стал моим усердным проводником по Парижу. Это был уже немолодой, но очень красивый и элегантный человек. В молодости, судя по портретам, напоминавший изнеженную красоту Мюссе, а в то время, когда я с ним познакомилась, уже утомленный, со скептической улыбкой умных глаз, блондин с сильной проседью. Он звал меня «милый коллега», возил меня по разным интересным местам. Прежде всего показал мне редакцию и типографию большой парижской газеты, где сотрудничал. Он был известный писатель, поэт, драматург и журналист. Как его газета непохожа была на мои родные «Русские ведомости»! Тип газеты — американский: погоня за сенсациями, полчища репортеров, лихорадочные телефонные звонки, стенографистки, беготня с этажа на этаж (газета занимала пятиэтажный дом), спешка… А наш-то тихий особнячок в Чернышевском переулке, строгий Соболевский, студенты, мирные чаепития в редакции у «дедушки» Саблина, часто при участии его пятилетней внучки Лёли…
Такая же разница между этими газетами, как между моим милым «дедушкой» в мягкой рубашке, с растрепанными серебряными волосами и этим утонченным парижанином, в светло-коричневом пальто, с гарденией в петлице и с сияющим цилиндром на голове. Но я чувствовала, что к Парижу он очень подходит и что более уместного спутника трудно было найти. Мы с ним фланировали, как два товарища. Ездили в Версаль, бродили по аллеям векового парка, где по вечерам, как в стихах Вердена, блуждали призраки напудренных маркиз, а днем мчались веселые велосипедисты, больше все парочками, иногда на тандеме и даже с привязанной к нему колясочкой, в которой болтал ножонками маленький ребенок: «Мсье, мадам и бебе». На берегах Сены ели жареных рыбешек в кабачках, увитых клематисом, заходили в ярмарочные балаганы, переходя от вагона к вагону — подвижному жилищу пестрых «комедиантов», точно уцелевших от времен Вильона. Нашим прогулкам придавали интерес и значительность литература и поэзия. Мендес читал мне свои стихи (он принадлежал к школе парнасцев) в деревенских кабачках, цитировал Тэна и Маколея в Версале, Гюго в соборе Парижской Богоматери и Вердена в «Черном коте» на Монмартре, излюбленном приюте театральной и литературной богемы Парижа. Своими меткими «комментариями» он освещал мне характер того или иного места и много помог в изучении внешнего Парижа. Показывал мне колоссальные магазины — «Лувр», «Бон-Маршэ», «Прентан» — огромные пасти, поглощавшие каждую минуту сотни, тысячи женщин, растерянных, утративших ощущение времени и пространства; повез меня в «Большой рынок» — эти горы мяса, дичи, рыбы, овощей, фруктов, которые поглощал Париж за один день; и мы вспоминали замечательного бытописателя Парижа Эмиля Золя и его романы «Дамское счастье» и «Чрево Парижа».