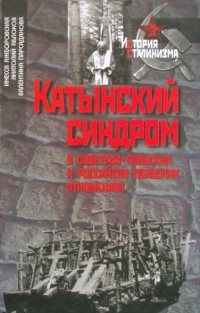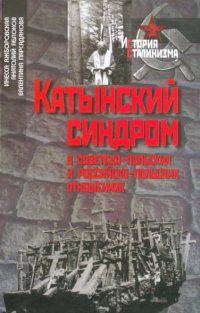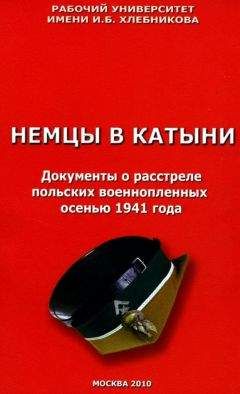Станислав Свяневич - В тени Катыни
Сейчас, спустя почти четверть века, я не могу не описать и другого «германофила», с которым я часто встречался в 1943 и 1944 годах. Признаюсь, германофильство в то время было довольно распространено в среде польской и центрально-европейской интеллигенции.
В конце тридцатых годов внимание общественности привлекла книга Адольфа Бохеньского о положении Польши, которая, по его мнению, находилась как бы между молотом и наковальней, т. е. между Германией и Россией. Станислав Мацкевич считал эту книгу блестящим анализом международного положения Польши, которая достойна стоять в одном ряду с написанной еще до Первой мировой войны работой на ту же тему Романа Дмовского и Владислава Студницкого. Бохеньский в своей книге приходил к несколько иным, чем в свое время Дмовский, выводам. Проведя математически точный, я бы даже сказал — маккиавелевский анализ польского международного положения, он приходил к выводу, что обеспечение безопасности и процветания Польши как суверенного государства можно достичь лишь имея дружеские, основанные на взаимном уважении, отношения с Германией. Правда, сколько можно было понять из бесед с Адамом Генделем5, после войны Бохеньский круто изменил свои взгляды.
Бохеньский принадлежал к тому поколению поляков, которое, родившись еще до образования независимой Польши, вышло в большую жизнь уже после майского переворота 1926 года. Его можно было назвать мозгом издававшихся Ежи Гедройцем и очень популярных в тридцатых годах журналов «Бунт молодых» и «Политика». Я к приверженцам, или, скорее, к клубу этих журналов не принадлежал, мне был чужд их консерватизм, но мне нравилась их идея сделать польскую внешнюю политику более гибкой и их высокий интеллектуальный потенциал. Меня познакомили с Адольфом, и он часто впоследствии навещал меня в Вильно. Когда началась война, Адольф был в Париже, там же, во Франции, он закончил школу подхорунжих и ушел воевать, участвовал в битвах под Нарвиком и Тобруком и даже получил орден Virtuti Militari за уничтожение неприятельского наблюдательного пункта. Этот интеллектуал стал замечательным солдатом, показывавшим пример личной доблести целой бригаде.
И вот однажды, осенью 1943 года мы собрались втроем в маленьком кафе в Иерусалиме: Адам Бохеньский, Влодимеж Хагемайер, тоже служивший в свое время в Карпатской бригаде, и я. Бохеньский начал излагать свою точку зрения на политическое положение. По его мнению, дальнейшая война с Германией потеряла всякий смысл: немцы уже явно ее проиграли, но, с другой стороны, столь же явной была и все возрастающая угроза со стороны СССР. Более того, он считал, что, несмотря на всю бесчеловечность гитлеровской оккупационной политики, германская армия сдерживала Сталина в его агрессивных замыслах. Разговор этот шел тогда, когда наши солдаты готовились к участию в итальянской кампании6 и знали правду о событиях в Катыни. На высказывания Адольфа Хагемайер заметил:
— Знаешь, если это твоя точка зрения, то ситуация крайне проста. Мы недалеко от турецкой границы, можем совершенно свободно туда поехать и обсудить с немцами вопросы возможного взаимодействия.
Бохеньский вовсе не почувствовал в словах Хагемайера иронии и простодушно ответил:
— Твое предложение в общем логично, но, видишь ли, есть одно но: воинская служба, полковые знамена, присяга — все это для меня значит много больше, чем политическая логика.
А я в эту минуту подумал о Козловском. Он был легионером, а легионы были, пожалуй, самым романтическим моментом в истории Польши. И наверняка Козловский чувствовал то же самое, что и Адольф. А если так, то что же было сильнее этих чувств, что стало для него выше солдатской чести?
Сразу после войны я слышал, что Козловский погиб во время одной из бомбежек Берлина, то ли в 1944, то ли в 1945 году. Преподаватель политологии университета в Кал-гари, Канада, профессор Шавловский как-то показал мне номер «Жиче Варшавы» от 22–23 июня 1974 года с некрологом Леона Козловского, скончавшегося 11 июня 1974 года на «чужбине». Там же было сообщение о панихиде в костеле Святого Карола Боромеуша. Некролог был подписан сестрой, учениками и друзьями. Но из этого краткого сообщения невозможно было понять, где и как провел Козловский последние тридцать лет, что делает его судьбу еще более таинственной.
Дело Роль-ЯнецкогоДело Роль-Янецкого очень затруднило работу посольства по оказанию помощи «амнистированным» полякам. Он был представителем посольства где-то в отдаленном сибирском районе. Приехал на работу в посольство из Англии и имел дипломатический паспорт и офицерское звание. Кстати, его откомандирование в посольство считалось военной командировкой.
В июне 1942 года он по служебным делам приехал в Куйбышев и захотел немного пошиковать — отправился в дипломатическую столовую. И надо же было такому случиться, что он там забыл свою папку. Естественно, агенты НКВД быстро изучили содержание папки и нашли документы, позволяющие обвинить Роль-Янецкого в шпионаже. Не знаю, был ли это военный или промышленный шпионаж.
Хорошо известно, что, желая кого-либо скомпрометировать, НКВД подсовывает этому лицу шпионские материалы, но в данном случае никто в посольстве такой гипотезы не выдвигал. Никто его и не осудил за сотрудничество с неприятелем. Для всех было очевидным, что он выполнял некую миссию для Англии, т. е. государства, бывшего для нас, как и для Советского Союза, союзником в войне.
Советы особенно чувствительны к таким инцидентам, перед войной в стране царила настоящая шпиономания, властям и населению под действием пропаганды шпионы и террористы мерещились на каждом шагу. Как я понял из моих разговоров с обвиненными в шпионаже, а таких я немало встретил в лагере, в то время особо опасными считались три разведки: английская, японская и польская. Да и сам я был осужден на восемь лет лагерей именно за шпионаж, единственным подтверждением которого были мои статьи, ничего иного, кроме моего знакомства с советским типом экономики, не содержавшие. По законам военного времени за шпионаж полагалась смертная казнь, но Роль-Янецкий имел дипломатический паспорт, и дело закончилось требованием советских властей, дабы он в 24 часа покинул пределы СССР.
Ночь перед отъездом он провел в комнате, где, кроме него, жили Вацлав Грубиньский, профессор Станислав Кощчалковский, я и еще несколько человек. Напротив моей постели была дверь, постоянно открытая, в маленькую комнатку Владислава Броневского и Бернарда Зингера, а слева стояла постель Вацлава Грубиньского, бывшего из-за своего эпикуреизма и добродушия отличным товарищем и в горе и в радости. Справа стояла еще одна кровать, в тот вечер, уткнувшись лицом в подушку, на ней лежал высокий человек. Он лежал не вставая, он не представился ни мне, ни моим товарищам, он даже не разделся, а лежал в ботинках и одежде. Это был тоскливый вечер. Нам вроде бы и хотелось как-то посочувствовать этому человеку в его беде, и вроде было неудобно, да и отталкивало его нежелание разговаривать. Мне очень хотелось узнать, сколько в действительности было в его папке компрометирующего материала, а сколько было подложено туда НКВД.