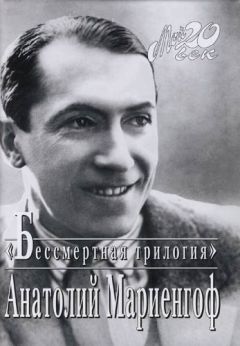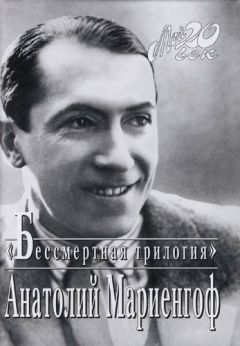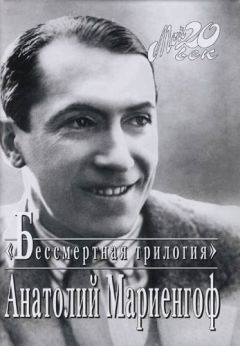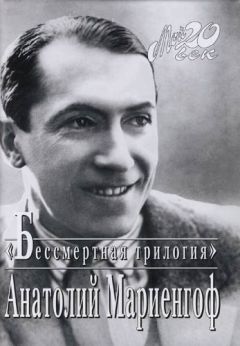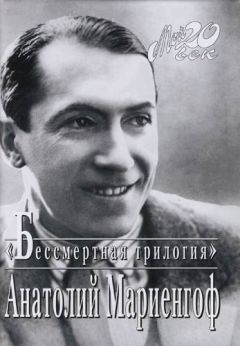Анатолий Мариенгоф - Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги
Я закурил.
А Качалов только сказал:
— Н-н-да, финита ля комедия.
30
Меня не слишком интересовали Ершов, изображающий князя Нехлюдова, и Еланская в арестантском халате Катюши Масловой. Бог с ними!
В третий раз я пришел на «Воскресение» в Художественный театр ради Толстого. Ради странного Льва Николаевича: без толстовки, без седой раскольничьей бороды, без библейской пророческой лысины, без длинноволосых грозных бровей над пронизывающими маленькими глазами.
Бывший настоящий граф (как сказали бы нынче) и ростом не вышел. Дубовое жилище его, как известно, было длиною в два аршина девять вершков. И говорил он жиденьким теноровым голосом. Яснополянская старушка-крестьянка так про него говорила: «Он при жизни-то, последние годы, такой был худенький да маленький. В чем душа держалась. Износил он тело-то свое здесь, на земле».
И добавляла в утешение: «А там оно ему не понадобится».
А Лев Толстой Художественного театра был высок, красив, брит, золотисто-рыжеват, с нечетким пробором. И очень элегантен в мягкой домашней куртке. Аристократические пальцы с изящной небрежностью играли тонким длинным карандашом, искусно отточенным. И говорил он покоряющим голосом. Россия, Европа и Америка называли его «органом», «совершенным органом». И уж нисколько, разумеется, не пришептывал, подобно Саваофу, у которого, по свидетельству Гольденвейзера, слово «лучше» звучало как «лутце». А слова «первый», «зеркало» произносил: «перьвый», «зерькало»; «скрипку» называл «скрыпкой», а вместо «три рубля» — говорил: «три рубли». И т. д.
Впрочем, я считаю, что это страшное и губительное для актера дело — владеть «совершенным органом». И еще губительней говорить «совершенно правильно».
Вспоминаю замечательного Певцова. Он был заикой. Вспоминаю Горина-Горяинова, неповторимого и в драме, и в комедии. Он был шепелявым. А Михаил Чехов! Право, его бы никогда не взяли в протодиаконы, даже в наш пензенский кафедральный собор. Куда там!
Признаюсь, еще я очень люблю, когда средне-хорошие актеры играют больными. То ли у них несмыкание связок, то ли трахеит, то ли попросту «голос сел», потому что наглотались ледяного пива или перекричали, играя Шиллера. До чего же они тогда делаются на сцене человечными — говорят тихо, сдержанно, умно.
К сожалению, это бывает не часто — не часто они играют больными.
Итак: все было не то у Качалова — мхатовского Льва Толстого. И голос не тот, и лицо, и рост, и жест, и костюм.
Этому ли мхатовскому Толстому валить на себя шкап, делая несвойственную годам гимнастику, а потом записывать в дневнике: «То-то дурень!»
Не тот как будто!
Не то, право!
А был он — тот. Именно — тот. И все это было то, потому что главное, самое главное — было то! Мысли Толстого стали мыслями Качалова. Толстовская душа — качаловской душой.
Душа, сердце… Эти слова всякий раз мне писать неловко. Какие-то сладенькие они! Лет через сто, думается, они станут совсем старомодными. Как в городе лошадь.
Когда Качалов вышел на сцену, весь театр встал и с умилением несколько минут бил в ладоши. А не вовремя бить в ладоши в этом театре запрещалось. К несчастью, тот, кто запрещал, окончательно успокоился, отволновался, отзапрещался.
Во время войны МХАТ играл в Куйбышеве. Артисты тогда любили говорить: «Вот прилетит сюда немец, бросит на нас бомбу и — здравствуйте, Константин Сергеевич!»
Есть такое выражение: актерское чудо.
Я в своей жизни не много их видел: Михаил Чехов — Хлестаков, Хмелев — Каренин, Певцов — император Павел, Качалов — Иван Карамазов, Качалов — Карено, Качалов — Барон из «На дне», Качалов — Лев Толстой (по ремарке инсценировщика — Ведущий). Всякий раз это было актерское чудо.
«Василий Иванович… вы счастливец! Вам дан природой высший артистический дар».
Так в тридцать пятом году написал Качалову их театральный бог.
Ленинград.
Громадные хрустальные люстры, отражаясь в толстых мраморных колоннах, заливают зал филармонии праздничным потоком искусственного света.
Партер и хоры густо усеяны головами.
Плотная толпа замазывает черной краской широкие коридоры за креслами.
Выходит Качалов. Зал встает. Встают хоры.
Лермонтов бы сказал: «Р-р-укоплесканьями гр-ремит шир-рокая ар-рена».
Качалов кланяется.
Зал и хоры стоят.
Качалов кланяется, кланяется, кланяется.
Надо же когда-нибудь начать!
И он начинает:
Толстой, Достоевский, Шекспир, Байрон, Гете, Блок, Есенин.
Нет, он не читает Толстого, Достоевского, Шекспира, Байрона, Гете, Блока, Есенина. Качалов читает — себя.
«Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, — красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».
Это он! Это философ Качалов, стоящий тут, перед нами, на фоне длинных серебряных труб филармонийского органа, это Василий Иванович Качалов любит человеческую жизнь и «красоту мира Божия».
Только я в эту цветь, в эту гладь
Под тальянку веселого мая
Ничего не смогу пожелать,
Все как есть, без конца принимая.
Принимаю — приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отрада…
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.
И это не Сергей Есенин, а Качалов.
И опять:
«Рукоплесканьями гремит широкая арена».
Наклонясь к Никритиной, я шепчу:
— Вот тебе, Нюха, и эстрадник!
— Ух, какой великий эстрадник!
Василий Иванович внутренне давно ушел из Художественного театра. Он даже говорил «они» о работающих, вернее — служащих в невысоком серо-зеленом доме с чайкой над входом.
Станиславский пугал:
— Ни один театр в мире не может так быстро рассыпаться, как Художественный. Он может рассыпаться в два месяца или даже в два спектакля, и ничего от него не останется.
Над этими словами надо бы призадуматься.