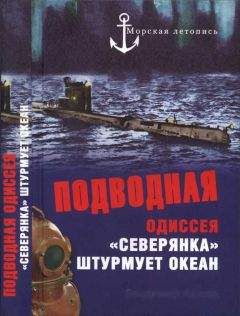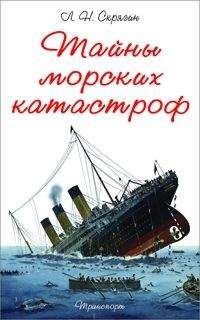Иван Бунин - Том 6. Публицистика. Воспоминания
Есть еще и до сих пор множество умников, искренне убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, — высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, — ему было тогда лет двадцать пять, — особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!
— Слава подобна морской воде, — чем больше пьешь, тем больше жаждешь, — шутил Чехов.
Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:
— Вот посмотри, какой был у меня родитель.
Драл меня нещадно!
Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нещадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного»… Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаниях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, — например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении:
— Пой, Федя, — на душе веселей будет! Песня — как птица, выпусти ее, она и летит!
И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, — от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношениях: поистине дал ему бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.
* * *Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр — и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской» милости!
Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал этаким волжским тенорком:
— Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.
— Не забывай, — сказал я, — что живу я на пятом этаже и не так мал.
— Ничего, милый, — ответил он, — как-нибудь донесу!
И, действительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца — потребовал в номер бутылку «столетнего» бургонского за целых сто рублей (которое оказалось похоже на малиновую воду).
* * *Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, — и чаще всего самыми крепкими, — жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:
— Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!
— Ты умный, Ваня, — ответил он сладким говорком, — только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.
— Надоел ты мне со своей Русью! — сказал я…
— Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты, гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?
— За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, — помни, кто ты и кто они.
— Чем же я от них отличаюсь?
— Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только «литература» и часто даже лубочная, твой же голос, во всяком случае, не «литература».