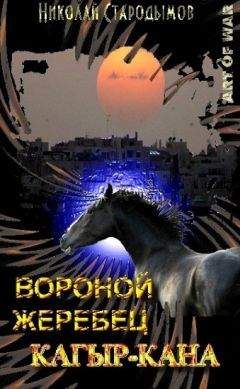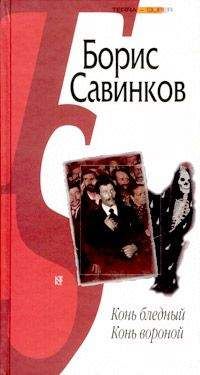Фаина Пиголицына - Мстерский летописец
Он опишет редкие, хранящиеся в Богоявленском храме, резные по дереву и кости иконы, финифтяной образок, а потом и небольшое, но весьма интересное исследование посвятит крестам и изобразит литографически семнадцать их, разнообразных форм и образцов: мужских, женских, детских… Кресты делались из разных металлов, часто из серебра и золота, украшались ценинной поливой или финифтью разных цветов.
Потом он зарисует резной на кости медальон с профильными портретами Петра II и Елизаветы Петровны, древний серебряный кубок с ножкой в виде Геркулеса, поддерживающего чашу. На чаше с трех сторон, в орнаментах, были портреты Петра I, Екатерины II. Такие кубки, как родовая драгоценность, украшали праздничные столования, переходили в наследие от поколения к поколению. Ими награждали, как потом будут награждать перстнями и орденами. И удостоенные такого дара именовались жалованными людьми.
«Не одни татарские разорения и пожары были причиною уничтожения памятников древних русских искусств и художеств», — пишет Голышев. Тот же синодальный указ в 1722 году повелевал отобрать на церковные всякие потребы привески у образов, что и было исполнено в церкви Владимирского Княгинина Успенского девичьего монастыря XII века. Повсюду на Руси было уничтожено множество украшений древних икон. С болью писал Голышев в альбоме, что по «равнодушию, беспечности, холодности, а сплошь и рядом по невежественному обращению… уничтожалось множество драгоценностей старины… особенно в среде провинции».
«Время изгладило старину родную», — с горечью отмечает он, — и вышивки «ныне утратили свой оригинальный характер изящества», а было время, когда на стенах во время свадьбы развешивались «в числе приданого» вышивные полотенца и простыни были с затейливыми рисунками.
— Ванечка, тебе целая пачка писем, — вошла в кабинет мужа Авдотья Ивановна, — и сразу два от барона.
— Почитай мне сама, — попросил Иван Александрович.
Барон Николай Казимирович Богушевский, член С.-Петербургского и Московского археологических и Британского исторического обществ, был самым активным корреспондентом Голышева. В 1877 году он впервые написал Голышеву, прочитав о нем статью Стасова в столичном журнале, и попросил его альбомы «для исследований» о России и ее древностях, которые он издавал в Англии.
Барон был сверхобразован. «Иностранец по воспитанию», как он себя называл; кончил курс в Гейдельберге, учился в Англии — в Итоне и Оксфорде. Происходил он из важного и богатого рода. Жил Богушевский в своем имении под Псковом холостяком и писал, что не собирается жениться. В тридцать лет увалень, весом в пять пудов, при росте пять футов, списывал свою лень на текущую в нем малороссийскую "кровь.
«…Деревенский житель и любитель деревни, — писал барон о себе, — любитель нашего, хотя бедного, но чистосердечного народа — все обычаи его — особливо имеющие следы древности — для меня дороги… горжусь тем, что хотя потомок древних крепостников, но первый, даже за 12'/г месяцев до Манифеста… сам отпустил крестьян своих (1180 душ) на волю». Но и после этого Богушевский остался самым крупным землевладельцем своего уезда, имея в шести усадьбах пятнадцать тысяч десятин земли, которые отдавал «в кортому» — аренду.
Барон жаловался Голышеву, что получает очень большую корреспонденцию и потому у него постоянно залеживается пятьдесят — шестьдесят писем, но Ивану Александровичу с ответом он никогда не медлил и писал письма на огромных листах, по шесть и более страниц.
Видимо, он был очень одинок. Чуть задерживался Голышев с ответом на его письмо, как Богушевский уже беспокоился: «Не нашли ли чего неприятного в моих письмах? Если да, ради христа простите, ведь не всегда слова по вершкам удается размерить — пишется что на ум набредет, без дурной мысли».
Как-то Богушевский, выпрашивая у Голышева за деньги автограф письма Некрасова, видимо, неосторожно назвал Ивана Александровича офеней, Голышев обиделся.
Барон перепугался, как бы дружба их не пострадала: «Когда, позвольте спросить Вас, сказал или намекнул я, что Вы — офеня или поступаете, как офеня? Сколько помню, об такой грубости и помину с моей стороны не могло был. и Вы никогда не подали мне малейшей причины на такуто нелепую выходку. Я добавлю, что я очень чту и дорожу вниманием Вашим… ни за 10 000 р. не согласился бы с Вами разойтись, да еще по своей вине или грубости (а ее у меня и в характере сроду не было)… Все Ваши действия, добавлю, благородны и почтенны — а если чем и досадил Вам, то прошу извинить уважающему Вас земляку и позабыть… Буду ждать с нетерпением от Вас весточки — чтобы услышать, что не сетуете на меня долее».
Очень обрадовался, что недоразумение устранилось, попросил Голышева прислать свое фото и сообщал: «Карточка будет в моем альбоме в достойном Вас обществе европейских ученых, друзей моих. Между ними есть и Кар-лейль, и Виктор Гюго, и Бульвер-Литтон, и Оуэн и Дарвин, и наследный принц Германский, и много еще важных, а главное — добрых, чистосердечных людей». «Таких любителей археологии, — писал Николай Казимирович Го-лышеву, — как Вы да я, на Руси очень мало, большинство гоняется за наживой по другим, менее почтенным стезям и относится к археологии — особенно же провинциальной — либо с насмешкой, либо с полнейшим равнодушием…»
Прочитав в «Голосе» некролог Голышева о Тихонраво-ве, Богушевский писал: «Жаль, жаль, что у нас полезные деятели умирают, не оставляя ничего — даже для похорон, а пустомели, бюрократы, казнокрады и подлипалы… оставляют капиталы семьям, пенсии любовницам и слугам и ложатся под мраморные саркофаги в Александро-Невском!»
Богушевский постоянно просил Ивана Александровича присылать иконы, доски для икон и пряников, брошюры и голышевские альбомы.
Чины он не почитал, даже про свой титул барона писал Голышеву: «мне он противен» — и довольно резко отзывался в письмах о людях своего круга. Отказался быть членом управы, так как «не хотел быть заодно с подлецами и грабителями, делить трудовой кусок, отнятый у хлебопашца». Про общего их знакомого говорил: «…откровенно скажу: не почитаю. Это все из тех же подлипалов-фанфаронов… Это у нас всегда так. Ложись на лежанку и спи на лаврах, благо 2 брошюры написал, из других книг склеив их!!» Редактора «Русской старины» Семевского он одно время тоже не жаловал, считая, что он «превращается из любителя изысканий в истого Бюрократа».
Наверное, подобные письма сыграли немалую роль в формировании мировоззрения Голышева, вернее в изменении уже сформированного школой, церковью, семейным воспитанием верноподданнического мировоззрения.