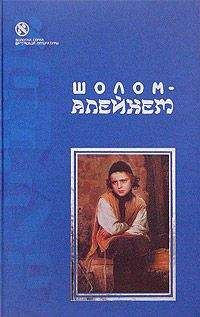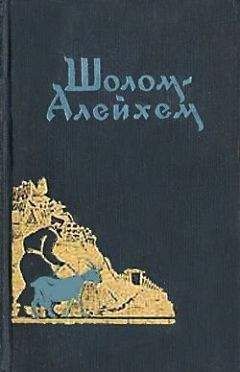Лев Друскин - Спасенная книга. Воспоминания ленинградского поэта.
Приехал попрощаться и человек, возивший нас в ЗАГС — мой довоенный друг, наш с Лилей посаженный отец. Он приехал в середине июля, а мы улетели в конце декабря.
Но он так обнял меня, что я понял: это последняя встреча. Длинный, нескладный, он комкал в руках газету, нервничал, торопился. И уходил не по дорожке, как все, а стороной, между деревьями, и оттого особенно бросался в глаза.
Эти горестные заметы можно приводить без конца.
Старая приятельница сказала:
— Лева, мы дружим с тобой тридцать пять лет, а с моим мужем ты знаком только тридцать. Не сердись… Позволь, я буду приходить к тебе одна.
А что мне оставалось? Я позволил.
392
Как-то осенью зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал женский голос:
— Один друг просит передать, что он очень вас любит.
— Кто?
— Он просил не упоминать его имени.
— Ну назовите какие-нибудь приметы, чтобы я догадался.
— Не могу… Он не велел ничего говорить о себе… Но он очень вас любит.
Я обозлился и сказал:
— Разговор получается глуповатый.
А она твердила, как попугай:
— Я не обижаюсь… Я понимаю… Но он просил передать только одно: что он очень вас любит.
— Скажите ему, что я его тоже очень люблю, — сдался я.
Смешно? Нет, страшно.
По вечерам мы теперь обычно сидели вдвоем. Телефон, трещавший как в министерстве, молчал неделями.
Сам я не звонил никому — зачем ставить людей в неловкое положение?
И часто и остро вспоминал, как Зощенко в горькие свои годы, встретив в трамвае знакомого, никогда не здоровался первый. Ждал: поздороваются ли с ним?
ОДНИ КОЗЫРИ –
Я спрашиваю Лилю: может быть, нас просто мало любили?
"Не имей сто рублей, а имей сто друзей", — гласит поговорка.
И мне казалось, что я имел их.
Нет, они не предали, они просто отшатнулись в испуге.
После обыска мудрый и многоопытный В. сказал:
— Теперь колода перетасуется — останутся одни козыри. Перетасовалась. Но какой она стала тоненькой! И какие любимые карты ушли! Больно.
393
"Мы сидим, записки пишем —
Лиля мне, а я тебе.
Мы уже почти не дышим,
Так боимся КГБ".
ДОБРЫЙ СОВЕТ –
Жена брата — Рая. Глаза жалкие, недавно плакала. Очень боится — не столько за меня, сколько за своего мужа. Дотрагивается до моей руки, робко спрашивает:
— А, может быть, тебе еще написать им, попросить? Может, еще простят?
ЗВОНОК ИЗ МОСКВЫ –
Из Москвы позвонила приятельница.
— Ну как?
— Исключили.
— Ну что ж, — говорит она, — это многих славных путь.
НЕ СТАЯ ВОРОНОВ СЛЕТАЛАСЬ –
Лукавый Ким Рыжов, оглянувшись, не видит ли кто, подгреб на костылях к ступеням террасы и спросил:
— Ну что, сидим в политической изоляции? А я на вашу дачу заявление подал.
— Сидим, — ответили мы вызывающе, и представили, как по нашим комнатам, словно по нашим сердцам, ходят чужие, немилые люди.
КЛЯТВА ГИППОКРАТА –
Что-то побаливает сердце. Довели все-таки.
Но сегодня среда — писательские дачи обходит врач, Ксе-
394
ния Константиновна. За деревьями уже мелькает белый халат.
— Ну как ты себя чувствуешь, деточка?
Она моложе меня лет на восемь. Но у нее все деточки.
— Да вот сердце пошаливает, — говорю я. И в ответ слышу:
— А я к вам последний раз — мне не разрешили вас обслуживать.
Гляжу и не верю.
У меня болит сердце. (Позже выяснится, что это инфаркт.) Она специалист, долгие годы заведовала кардиологическим отделением больницы Ленина.
Кто может помешать врачу оказать помощь больному? У кого повернется язык? А если повернулся, кто узнает — осматривала меня Ксения Константиновна или нет?
А как она разглагольствовала после обыска!
"Никто не посмеет мне сказать ни слова. Я врач. Я останусь вашим домашним врачом в любом случае. Больной всегда больной. Даже раненым врагам…"
Сейчас она сидит передо мной в своем белом халате и говорит:
— Мне запретили выписывать вам рецепты.
И уходит, поджав губы, обиженная тем, что мы простились с ней сухо.
Вот она идет по дорожке, исполненная достоинства, унося с собой клятву Гиппократа и врачебную совесть.
"Если хочешь в Божий рай,
Ляг и помирай.
Небо!
Почему ж мы не спешим в рай"?
ТАК ИХ И ВЫПУСТИЛИ –
Не хочу выдумывать сравнений: Дом творчества гудел, как потревоженное шмелиное гнездо.
395
В вестибюле, в саду, в столовой говорили только обо мне. Сбылись слова Николая Ушакова:
"Может быть, не думать нам о славе,
И тогда она сама придет".
Да и было о чем посудачить!
Оказывается:
У меня уже опубликованы две книги за рубежом; рукопись третьей перехватили на границе.
Я переправлял за границу наркотики и там продавал.
Я возглавлял ленинградский сионистский центр, а заместителем моим был Виктор Соснора.
Во время обыска у меня обнаружен и изъят радиопередатчик.
И ведь следствие еще не закончено!
А вот разговор двух дачных соседок:
Первая: Вы слышали? Друскины-то собираются в Израиль.
Вторая (с ненавистью): Ну да! Так их и выпустили! Здесь сгноят.
Когда я узнал об этом диалоге, я очень удивился. Вторая соседка — мирная, глуповатая женщина, о которой муж написал знаменитые стихи "Я бил жену, не зажигая света" — всегда относилась к нам хорошо.
Что же это такое? Зависть?
МИЛИЦИЮ МЫ ВЫЗЫВАТЬ НЕ БУДЕМ –
Телефон разрывается от звона.
Лиле на костылях далеко — по пандусу, через веранду и, наконец, в комнату. Но она успела.
— Лев Савельевич?
— Нет, Лидия Викторовна.
— Говорит директор Литфонда. Принято решение о выселении вас с дачи. Потрудитесь с первого августа освободить помещение.
396
— Сейчас, — сказала Лиля.
— Не сейчас, — взорвался директор, — а предупреждаю вас за три дня. В четверг мы пришлем автобус.
— Вы лучше бульдозер пришлите, — посоветовала Лиля.
— Что за тон! Как вы со мной разговариваете?
— А как мне еще разговаривать? Договор заключен на год, в середине лета никуда я мужа не повезу.
Директор ломился напрямую.
— Нет, повезете. У вас три дня на сборы. В четверг придет машина и если вещи не будут собраны — вам помогут.
Внезапно Лилю осенило.
— А вы с КГБ согласовали? — спросила она нагло. — Вы уверены, что им захочется, чтобы мы оказались в Ленинграде в дни Олимпиады?
И тут директор сам выкопал себе яму.
— Мы со всеми согласовали, — сказал он, — можете не беспокоиться.
— А я и не беспокоюсь, — ответила Лиля.