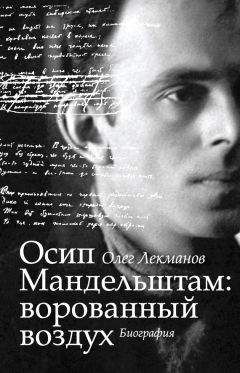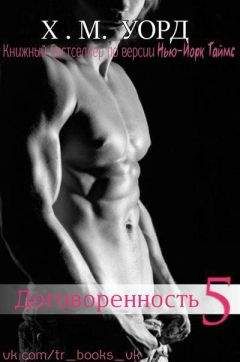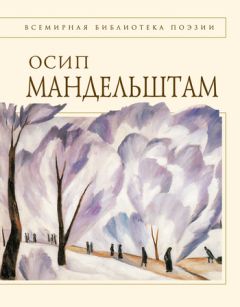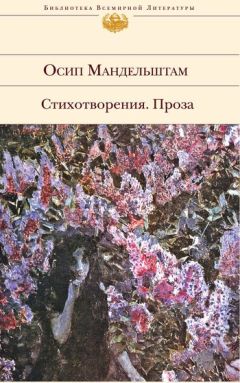Олег Лекманов - Осип Мандельштам: Жизнь поэта
Эмма Григорьевна Герштейн, рассказывая в своей мемуарной книге о семейной жизни Мандельштамов этого периода и влюбленности поэта в Марию Петровых, воспользовалась множеством терминов из арсенала профессиональных сексологов: «брак втроем»,[706] «строго просчитанные чередования эксгибиционизма и вуайерства»,[707] «бисексуальность»[708] и, наконец, – «садизм».[709] Приведя здесь, по долгу честного биографа, эти библиографические ссылки, сознательно ограничим себя ими, а также цитатой из Мандельштамовской внутренней рецензии 1927 года на роман Рахели Санзара «Потерянное дитя»: «Атмосфера повествования очень напряженная с уклоном к мелодраме. Социально книга фальшива. Фабульно – интересна. Принять ее ни в коем случае нельзя: она насквозь нездорова, играя на патологических явлениях и искажая действительность» (11:589). Излишне будет еще раз говорить здесь о том, что мы высоко ценим мемуары Герштейн. Лучше любых слов об этом свидетельствуют многочисленные отсылки к ее воспоминаниям, содержащиеся в нашей книге.
Едва ли не самым значительным событием зимы 1934 года стала для Осипа Эмильевича неожиданная смерть Андрея Белого, которая пришлась на 8 января. Сергей Рудаков изложил в письме своей жене рассказ Мандельштама о том, как он «стоял в последнем карауле. <…> В суматохе М<андельштам>у на спину упала крышка гроба Белого».[710] Смерть автора «Петербурга» и «Мастерства Гоголя» поэт оплакал в нескольких стихотворениях, которые в семье Мандельштамов условно назывались «Реквием». Одно из стихотворений Осип Эмильевич передал вдове покойного писателя, но Клавдии Николаевне оно не понравилось, так как показалось слишком «непонятным».[711]
Реквием по Андрею Белому закономерно может восприниматься и как реквием по самому Мандельштаму, «…тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме, – вспоминала Анна Ахматова. – Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 года), о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: „Я к смерти готов“».[712] Тогда же Мандельштам спрятал в каблук своего ботинка лезвие безопасной бритвы – спустя несколько месяцев оно будет пущено в ход.
Семнадцатого февраля 1934 года Владимир Дмитриевич Бонч—Бруевич высказал пожелание приобрести мандельштамовский архив для Центрального музея художественной литературы, критики и публицистики. 16 марта собралась комиссия экспертов по приобретению фондов музея, которая предложила за архив поэта смехотворно малую цену: 500 рублей. Вдогонку неприятному разговору с Бонч—Бруевичем, состоявшемуся 21 марта, полетело гневное Мандельштамовское письмо: «Назначать за мои рукописи любую цену – Ваше право. Мое дело – согласиться или отказаться. Между тем Вы почему—то сочли нужным сообщить мне развернутую мотивировку Вашего неуважения к моим трудам. Таким образом покупку писательского архива Вы превратили в карикатуру на посмертную оценку. Безо всякого повода с моей стороны Вы заговорили со мной так, как если бы я принес на утильпункт никому не нужное барахло, скупаемое с неизвестной целью» (IV: 156).
В позднейшем разговоре с Сергеем Рудаковым Мандельштам следующим образом излагал соображения, высказанные ему Бонч—Бруевичем: «Я, да и мои товарищи считаем вас второстепенным поэтом – не обижайтесь и на нас не сердитесь – другие и даром <свои архивы> дарят».[713]
В середине апреля 1934 года Мандельштамы приехали в Ленинград. В начале мая в помещении «Издательства писателей» Осип Эмильевич получил, наконец, возможность поквитаться с председателем позорного суда по «делу Саргиджана – Мандельштама» Алексеем Толстым. Елена Тагер записала со слов Валентина Стенича: «Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал его, по щеке и произнес в своей патетической манере: „Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены“».[714] Вариант Федора Волькенштейна:
«Мандельштам побледнел, а затем, отскочив и развернувшись, дал Толстому звонкую пощечину.
– Вот вам за ваш «товарищеский суд», – пробормотал он. Толстой схватил Мандельштама за руку.
– Что вы делаете?! Разве вы не понимаете, что я могу вас у—ни—что—жить! – прошипел Толстой».[715]
К этому Волькенштейн прибавляет: «Я знал и заверяю читателя, что ни к аресту Мандельштама, ни к его дальнейшей судьбе Толстой не имел никакого отношения».[716] Отметим, что в своей речи на Первом всесоюзном съезде советских писателей «красный граф» высказался о Мандельштаме крайне негативно. Отметим также, что поступок Мандельштама широко обсуждался в литературных кругах. Из воспоминаний Екатерины Петровых: «…поэт Перец Маркиш, узнав о пощечине, с видом предельного изумления поднял палец кверху со словами: „О! Еврей дал пощечину графу!!!“»[717]
Показательно, что по поводу этого громкого происшествия Президиум Ленинградского оргкомитета ССП счел нужным 27 апреля 1934 года отправить Алексею Толстому специальное письмо: «Мы не сомневаемся в том, что хулиганская выходка Мандельштама встретит самое резкое осуждение со стороны всей советской писательской общественности. Вместе с тем, мы с большим удовлетворением отмечаем ту исключительную выдержку и твердость, которую Вы проявили в этом инциденте. Только так и мог реагировать подлинный советский писатель на истерическую выходку человека, в котором до сих пор еще живы традиции худшей части дореволюционной писательской среды».[718]
Есть основания предполагать, что в Ленинград Мандельштам ездил специально для того, чтобы наказать Толстого: совершив возмездие, он, сопровождаемый Надеждой Яковлевной, вернулся в Москву. Опасаясь гнева советского графа, поэт, вместе с женой, посетил Бухарина и рассказал ему о случившемся.
К себе в гости поэту удалось зазвать Ахматову.[719] Из мемуаров Анны Андреевны: «…я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда (где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым)».[720]
В ночь с 13 на 14 мая 1934 года (по данным НКВД – в ночь с 16 на 17 мая) Осип Эмильевич Мандельштам был арестован.
Глава пятая
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ (1934–1938)
1
«Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел „Волка“ (стихотворение „За гремучую доблесть грядущих веков…“. – О. Л.) и показал О. Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь утра. Было совсем светло», – вспоминала Ахматова.[721]