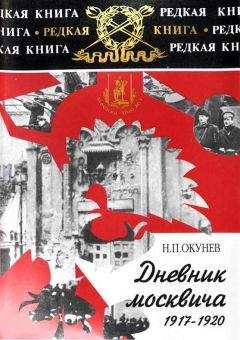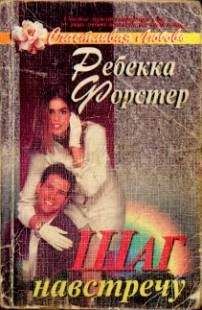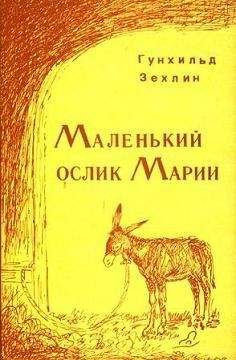Сергей Трубецкой - Минувшее
Время шло, и я не понимал, что происходит в нашей судьбе — моей и моих друзей. Только впоследствии я услышал версию, которую и имею основание считать правильной, хотя, понятно, документально доказать ничего не могу.
Как раз во время наших арестов советская власть вступила в сношения с английским правительством, и в московских большевицких кругах зародилась надежда на официальное признание советского правительства. В Лондон для переговоров был послан видный, старый коммунист из «ленинской гвардии» — Л. Б. Каменев (впоследствии расстрелянный Сталиным). Каменев для укрепления своих дипломатических позиций в Англии очень настаивал, чтобы декрет о прекращении бессудных политических казней ВЧК, принятый и опубликованный именно для «заграницы», проводился бы на практике... по крайней мере, во время переговоров... Между тем, в Лондоне Каменеву сделались известны наши аресты, о которых сообщил туда тот самый Поль Дьюкс (теперь уже сэр Поль Дьюкс), о невольной роли которого в наших арестах я уже говорил (именно он командировал к нам выдавшую нас Петровскую). Поэтому Каменев особенно настаивал перед ВЦИКом, чтобы по этому — известному англичанам — делу не было бессудных расстрелов. Вследствие этого ВЧК получила специальное распоряжение нас не расстреливать,— что последняя собиралась сделать,— и через некоторое время наше дело из тайников «Особого отдела», по распоряжению ВЦИКа, было передано в «Верховный Трибунал СССР», где, как я расскажу после, оно действительно было заслушано в публичных заседаниях.
Я говорю все это, чтобы объяснить, почему ни я, ни мои друзья не были тогда расстреляны ВЧК, но, конечно, я ничего этого тогда не знал и поэтому ничего из происходящего не понимал.
Единственное, что начало тогда постепенно проясняться в моей голове, это роль в нашем деле Виноградского.
Я пришел к этому убеждению не сразу и вначале даже старался противиться первым неблагоприятным для него выводам из анализа известных мне фактов. Однако постепенно уверенность в виновности Виноградского выкристаллизовывалась в моем сознании. Тот же путь подозрений, сомнений, потом уверенности проделал, как он мне потом рассказывал, и С. М. Леонтьев. Когда через несколько месяцев мы с ним встретились в Бутырской тюрьме, мы внезапно проверили и подкрепили заключения, к которым пришли порознь, каждый своим путем.
Моя тюремная жизнь в одиночке Внутренней тюрьмы текла неумолимо серо и однообразно. Помимо полной неопределенности моего положения, вся опасность которого, при осведомленности ВЧК о нашей деятельности, была очевидна, физические условия заключения были довольно тяжелые. Температура неотапливаемой камеры в феврале месяце в Москве была более чем прохладная. Градусника в камере, разумеется, не было, но за ночь вода в моей кружке, если и не замерзала, то все же иногда подергивалась «салом» — значит, температура приближалась к 0°. Меня спасали мой прекрасный военный романовский полушубок и теплые сапоги. Особенно мучителен был холод при тюремном недоедании — даже голоде. Помню, как несколько дней подряд мне давали хлеб, явно облитый керосином. Первый раз я заявил об этом страже, которая отобрала у меня весь мой хлебный паек, ничего не дав взамен. На основании этого опыта следующие дни я ел свой керосиновый хлеб, уже ничего не заявляя страже. Наконец однажды мне дали ломоть хлеба, буквально пропитанный керосином. Я еще не начал его есть, как в камеру вошел тюремщик и сказал: «Сегодня хлеб облит керосином; если вы его меньше половины съели, то отдайте — новый паек получите». Я подошел к своему чемодану, где хранился у меня хлеб, и, заслоняя его спиной от тюремщика, быстро отломил от пайки около трети. Отдав оставшийся кусок тюремщику, я получил от него новый полный паек хлеба, без керосина. Хотя керосиновый хлеб — большая гадость, я ясно помню, что я радовался не столько тому, что наконец получил хлеб без керосина, сколько тому, что мне удалось утаить сверх того кусок в 60—70 грамм. Кажется, я никогда в жизни не ел с таким удовольствием самое вкусное блюдо, как в этот счастливый день поедал кусок суррогатного хлеба, пропитанный керосином!
Другим мерилом моего тогдашнего голода может служить то, что я однажды попробовал есть запасной кусок мыла, который захватил с собой из дома. Могу засвидетельствовать, что есть мыло даже при большом голоде не стоит: рот наполняется противной пеной и проглотить нечего!
От голода у меня тогда не раз бывали какие-то кулинарные миражи. При этом мне мерещились вовсе не утонченные яства, а, наоборот, грубые, но очень питательные и жирные блюда. Помню, например, мучительно реальный образ и запах гречневой каши, залитой топленым салом. В прежние времена топленое сало не только не привлекало меня, но самый запах его действовал на меня отталкивающе...
Несколько раз я лишался чувств от голода. Помню, я раз пришел в себя днем, лежа на койке. Надо мной склонился начальник тюрьмы и еще кто-то. Я услышал голос докторши-чекистки: «Это — ничего: просто от голода...» Вероятно, стража, заметив, что я лежу на койке без сознания, заподозрила самоубийство и вызвала начальство. Я совершенно не помню, как я лишился сознания и сколько времени длилось это состояние. Во всяком случае, на этот раз я выиграл от беспокойства стражи. Вконец уморить меня голодом не пожелали, и на некоторое время мне был назначен «усиленный паек», то есть выдавалось больше обычного супа и приблизительно полуторная порция хлеба. И на том спасибо! На «усиленном пайке» я, хотя и продолжал страдать от голода, но все же больше в обморок не падал. Впоследствии, когда мне разрешили передачи из дома и я раз или два в неделю стал получать оттуда добавочное питание, «усиленного пайка» меня лишили. А как трудно было моим в то время доставать для меня это «добавочное питание», даже самое примитивное! Сколько людей — родных, знакомых и даже незнакомых — им в этом помогали... Много трогательного узнал я потом. Если я претерпел немало зла от людей, то много видал и добра от них; иных я не знал до того и никогда не узнал и позже. Мысленно благодарю Бога и их. Вообще могу сказать, что в жизни я получил от людей гораздо больше добра, чем сам сделал его людям.
«К тюрьме человек приучается скоро, если он имеет сколько-нибудь внутреннего содержания»,— говорит Герцен в «Былом и Думах». Сам Герцен (которого, по-моему, невероятно переоценивала наша интеллигенция) имел весьма малый опыт в тюремном отношении, но, думается мне, высказал очень правильную мысль относительно. одиночного заключения. Человеку малокультурному, или не имеющему внутреннего содержания (две вещи—часто не совпадающие!), или, наконец, лишенному выдержки, оно особенно тяжело, и наша прежняя военная юстиция правильно воспрещала одиночное заключение для нижних чинов на срок больше чем 3 месяца. На опыте было установлено, что малокультурные люди нередко сходили с ума при более долгих сроках пребывания в одиночках. Обратно — более культурные люди часто предпочитали одиночное заключение заключению в общей камере. Если не говорить о заключении с интересными или симпатичными людьми при условии пользования книгами, я лично предпочитаю одиночное заключение общему. Без книг одиночное заключение, конечно, очень утяжеляется, но и оно выносится культурными людьми обычно куда легче, чем некультурными. При этом, как мне кажется, очень многое зависит от того, как сам заключенный распределяет свое время. Самое плохое — отказ от какой-либо системы или организации в этом отношении. Я знал, что называется, «совершенно интеллигентных» людей, которые очень скоро психически расхлябывались в тюрьме, не находили нужным создавать для себя какие бы то ни было рамки, пусть даже отчасти фиктивные. Результаты для них самих получались самые плачевные. Могу только еще и еще раз благодарить мою мать, давшую мне с детства привычку к строгой дисциплине, перешедшую с возрастом в самодисциплину. Моя мать тогда не знала, что этим она очень облегчит мне тюремное заключение...