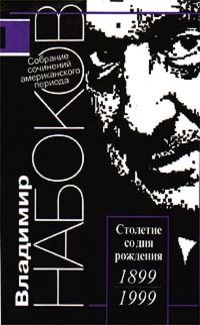Ю. Томашевский - Вспоминая Михаила Зощенко
Вносило путаницу и то, что рассказы Зощенко нэповских лет написаны от первого лица, от лица стоеросового мещанина, его-то нередко и отождествляли с автором. Повод к недоразумениям подавали и исполнители рассказов Зощенко с эстрады — пошловатые конферансье, дурные чтецы, плохие актеры. Опять же происходила подмена: Зощенко мысленно видели бойким эстрадником с ловко зачесанной плешью и развязными жестами. Всю жизнь Зощенко воевал с мещанством, а случилось так, что как раз мещанином, циничным, наглым, его и восприняли — этого деликатнейшего, скромнейшего человека с нежной душой, который при всей мягкости своей натуры страстно и глубоко ненавидел подлость, коварство, хамство, алчность и прочие свойства воинствующего мещанства.
Да, мы не были близко знакомы, тем более дружны, и не только из-за значительной разницы в возрасте — дружил же я с Евгением Шварцем, ровесником Михаила Михайловича. Полагаю, что много значил здесь пиетет перед редкостной силы талантом, поразившим меня еще в юности, этим непостижимым волшебным даром, позволявшим в рассказе на одну страничку творить литературное чудо. Глупо, но меня всегда брала оторопь, когда я видел в живом воплощении, одетым в обычную пиджачную пару, то самое диво, которым восхищался заочно. Так, до сих пор не могу себе простить, что до обидного редко встречался с Юрием Николаевичем Тыняновым, относившимся ко мне с постоянным благосклонным вниманием. Так, лишь в пятидесятые годы познакомился с Юрием Олешей, молодая «Зависть» которого за три десятилетия до того произвела на меня ослепительное впечатление. Мятый пиджак, седая щетина на щеках и угрюмый, пронизывающий взгляд исподлобья — вот каким я увидел Олешу, автора солнечных пейзажей Одессы и летней Москвы.
Что касается Зощенко, то, когда мы уже познакомились, главным препятствием к более короткому знакомству был, пожалуй, характер Михаила Михайловича, об особенностях которого он с достаточной откровенностью написал в автобиографической повести «Перед восходом солнца». Этот замкнутый, сдержанный и меланхоличный характер необидно держал на известной дистанции почти всех, с кем он общался, даже близких приятелей, даже друзей, даже «Серапионовых братьев».
Но бывали и исключения, в основном это относилось к женщинам. Не надо думать, что я посмею коснуться интимной сферы, я говорю о другом. Его неподдельный интерес к самым тонким душевным движениям собеседника, чаще же собеседницы, ибо женщины это особенно ценят, невольно располагал к откровенности, которую Михаил Михайлович никогда не употреблял во зло, иначе говоря, поведанные ему секреты сохранял в тайне. А если, как истый литератор, и использовал для своей работы тот или иной штрих, деталь, поворот сюжета, то так искусно и далеко уводил от «подлинника», что никто и не догадывался об «адресате». (Как известно, история литературы знает массу примеров обратного порядка.)
С годами он стал тончайшим психологом и моралистом, моралистом в том смысле, какой придаем мы склонности к нравоучительству, свойственной всем великим сатирикам прошлого — Свифту, Стерну, Диккенсу. У Зощенко на первых порах это обнаружилось не в рассказах и юмористических сценках, а в его ранних повестях, которые он потом сам назвал «сентиментальными», и полностью проявилось в «Голубой книге», в рассказах для детей, во всех поздних рассказах и фельетонах, и, наконец, в «Возвращенной молодости».
Итак, почему я решился писать о Зощенко? А что делать, отвечу я вопросом, если годы идут, люди уходят, все меньше и меньше на этом свете сверстников и ближайших его друзей? Поневоле приходится браться за перо тем, кто все же с ним часто встречался — и в Союзе писателей, и в редакциях, и в театрах, и на отдыхе, и происходило это на протяжении двадцати с лишним лет — срок немалый.
Тем более что во все эти годы я старался понять, что он за человек, столь отличающийся от других даже внешностью, даже манерами, приближающими его своим изяществом, я бы сказал — утонченностью и в то же время естественностью и простотой, скорее к людям прошлого века, и, пожалуй, не конца, а начала века, хотя он был наисовременнейшим, злободневнейшим по своим интересам и художественным средствам писателем, который полнее и точнее многих других вник в сегодняшний язык и в сегодняшний быт.
Я познакомился с Зощенко сравнительно поздно — в 1937 году в Коктебеле. Сентябрь стоял теплый, порой даже жаркий, купальный сезон был в разгаре, но Зощенко не купался: сухонький, легонький, в светлой в полоску пижамной куртке и в городских брюках из летней легкой материи, он неторопливо бродил по берегу, у самой кромки воды, высматривая и собирая разноцветные коктебельские камешки. Несмотря на то что он никогда не лежал на пляже, специально не загорал, цвет лица у него был постоянно оливковым, матово-смуглым даже зимой. Тогда я не знал, почему он не купается, и, конечно, не решился его об этом спросить. Лишь через шесть лет я прочел у него, что он с детства боялся воды, хотя много раз себя пересиливал, путешествовал морем, катался на лодке. Значит, надо всерьез оценить слова, сказанные им моей жене, заплывавшей в море далеко за буйки: «Смело плаваете, Танечка!» Этим он не только не осудил, не пожурил за излишний риск (он вообще не любил кого-либо и за что-либо осуждать и порицать, если не считать хамов и хамства), наоборот, в его голосе прозвучали похвала, удивление, может быть, даже немного — зависть, зависть человека, по неясной ему самому причине лишенного такого большого удовольствия, как плавание, купание в море.
Но я лишь постепенно понял, что Михаил Михайлович избегает пустых комплиментов, не транжирит похвал. Вот когда весной 1946 года мы шли с ним по набережной Фонтанки из издательства и он неожиданно подарил мне сборник своих рассказов и фельетонов с лестной надписью, тогда я уже знал, что Зощенко никогда не делает и не говорит ничего такого, что бы он всерьез не обдумал. Например, я не раз слышал от Михаила Михайловича, что он считает себя новичком в драматургии, хотя он написал уже не одну большую пьесу, прошедшую на сцене с успехом (например, «Уважаемый товарищ» с Утесовым в главной роли, «Парусиновый портфель» в театре им. Комиссаржевской; сразу после войны этот театр называли «Блокадным»), и несколько одноактных пьес. Это опять же не притворная скромность и не кокетство: именно так Михаил Михайлович и думал, сколько я его ни разубеждал, ссылаясь на самого себя, у которого из трех написанных к тому времени пьес шла на сцене всего одна.
Но это было далеко впереди, а в 1937 году в Коктебеле я никак не мог заставить себя подойти к нему и заговорить, с изумлением видя, как с ним запросто разговаривают другие. Коктебель в те годы представлял собой довольно глухое, диковатое место, мало похожее на курорт, и это в нем было самое привлекательное. Трудно было назвать «набережной» пешеходную тропку по краю невысокого обрыва над пляжем, отделенную от него кустами. Вечером, сидя здесь на скамейке, Зощенко, мягко улыбаясь, поблескивая золотым зубом где-то сбоку во рту, вел неспешные вежливые беседы то с лодочным сторожем, морщинистым, загоревшим до черноты старым греком, то с местным аптекарем, днем то и дело тарахтевшим по деревне на редкой еще в те годы мотоциклетке, то с уборщицей или официанткой из соседнего дома отдыха, называвшегося «Коммуной».