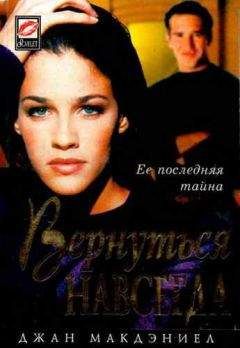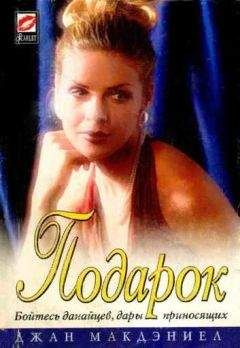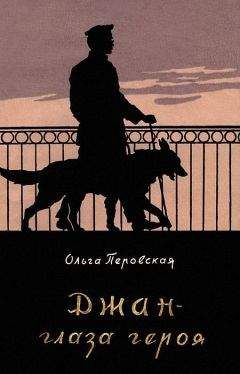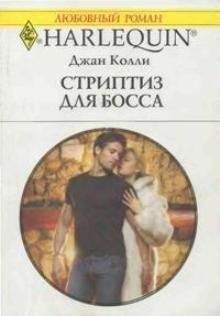Анри Гидель - Коко Шанель
Страдание Габриель было безмерным – столь безмерным, что она лишилась дара речи. Эта мгновенная смерть человека – такого живого среди живых, такого восторженного, пытливого разумом и сверкающего остроумием – была вне человеческого разумения, как немыслимым казалось видеть его безжизненное тело, так и уло-женное в гроб в безупречно белом теннисном костюме.
В жизни ей уже пришлось познать подобный ужас – той страшной декабрьской ночью 1919 года. И вот снова – на сей раз под ярким солнцем средиземноморского лета во всем блеске, когда этого меньше всего можно было бы ожидать… Что за проклятье преследует мужчин, которых она любит?! За что ей это все?!
Обессиленная, Коко недвижно сидела на стуле с опущенной головой. Глаза ее были сухими, но было ясно, что она беззвучно плачет. Вытянуть из нее хоть слово было невозможно. И тогда было сделано то единственное, что нужно: о случившемся известили по телефону ее близкую подругу. Не она ли спасла ее пятнадцать лет назад, когда не стало Боя? Не она ли с мужем Жозе Марией Сертом увезли ее в Венецию, вырвав из объятий страшного горя? Услышав о том, что с ее подругой снова произошла беда, Мися тут же примчалась, и благодаря ей удалось избежать самого худшего… Что из того? Габриель снова осталась в трагическом одиночестве. Одинока, как никогда…
9
НАЧАЛО КОНЦА
Она больше не могла даже плакать. Что ей теперь оставалось? Многие годы спустя она скажет о том Раймону Массаро, потомственному мастеру-обувщику, одному из тех профессионалов ремесла, к которым она относилась с любовью, уважением и почтением, потому что в этой среде не могли прижиться хитрость, туфта, мошенничество и небрежение. Узнав, что Массаро недавно потерял отца, она пригласила его к себе. Сказав ему слова утешения и пожелав ему в жизни «много любви», она дала ему последний совет: «Не забывайте, Раймон, что если даже вы окажетесь на самом дне горя, если у вас не останется вообще ничего, ни одной живой души вокруг – у вас всегда есть дверь, в которую вы можете постучаться… Это – работа!»
И, конечно же, сразу после погребения Поля Ириба в Барбизоне она погрузилась с головой в работу. В октябре ей нужно было подготовить коллекцию из 70–80 моделей весеннего сезона, показ которой, как и обычно, намечался на январь. И, как она любила говорить, с этим всегда запаздываешь… Представим-ка себе Габриель посреди ее студии на пятом этаже дома номер 31 по рю Камбон – эта огромная комната была по-истине творческой лабораторией, со стенами, обитыми мольтоном, приглушавшим малейший звук. Тут и там протянулись полки, набитые рулонами ткани; на стульях расположились длинные цилиндры белого атласа, развернутые рулоны джерсовой материи, многие и многие метры тюля, муслина, фая… У одной из стен – большое трехстворчатое зеркало, а чуть подальше – кресло, в которое Мадемуазель редко когда усаживалась, проводя на ногах обыкновенно восемь-девять часов кряду…
В эту пору никому другому не удалось, как Колетт, запечатлеть столь же метко портрет Коко, ухватившейся за работу… и за манекенщицу, непосредственно на которой она выстраивала задуманное платье, поскольку она, как известно, никогда не рисовала предварительных эскизов: «Мадемуазель принялась за ваяние ангела шести футов роста.[56] У этого ангела были белокурые с золотом волосы, а сам он был хоть и безличностным, зато красивым, как серафим. (…) Незавершенный ангел порою вздрагивал под действием двух сильных творческих рук, которые нещадно тискали его. Шанель работает десятью пальцами, ногтями, ребром ладони и самой ладонью, булавками, и ножницами, и самою тканью. Порою она падает на колени перед своим творением – не в знак почтения, но для того, чтобы попробовать немного растянуть тюль… Более всего ценится ею страстная готовность тела покоряться всему, что ей только потребуется! Поясница Шанель напряжена, ноги согнуты – она похожа на коленопреклоненную прачку, которая колотит белье, на тех ревностных домашних хозяек, которые привыкли по двадцать раз на дню вставать на колени, как монашки…»
Вокруг Мадемуазель, все во внимании и почтении – первая швея ателье, один-два портных в белых блузах, заведующая складом, которая подносит ткани, и помощница, готовая в любую минуту поднести подносы с украшениями, среди них Мадемуазель выберет нужные.
На шее у Габриель – длинная лента, к которой прицеплены ножницы. Работая, она не устает говорить своим нарочито сдержанным голосом. По словам Колетт, она говорит, объясняет и поправляет «с неким обостренным терпением». «Я различаю, – заявляет Колетт, – повторяющиеся слова», которые она напевала, точно ведущие музыкальные мотивы: «Я боюсь этих маленьких складок… на ткани, которая держится только на самой себе… Прижмите здесь, отпустите там… Нет, не обуживайте… Я два раза не повторяю…»
Нетрудно догадаться, что в такие минуты ее лучше было не беспокоить. Если же какой-нибудь любопытный посетитель пытался это сделать, она мигом спускалась к выходу, бросала вошедшему: «Не поднимайтесь так быстро, не стоит труда, ведь вам все равно придется спускаться», – и авторитарным жестом указывала на выход.
* * *Парадокс Шанель? Кутюрье, которая не умеет шить… Точнее говоря, если она чему и научилась – хотя бы все в том же Мулене, – то все давным-давно позабыла. Но с тех пор как она – в Довиле, в Париже – посвятила себя сотворению моды, так ли уж нужно ей было шить самой? Кстати, на это поприще ее толкнуло стремление к независимости: она терпеть не могла шляп и нарядов, которые носили ее современницы. «Я была инструментом Судьбы для проведения необходимой чистки», – скажет она впоследствии. Ее рабочим инструментом были в первую очередь ножницы, которые отсекают все ненужное, и иголки, которые шьют и пришивают все эти ненавистные излишества, «шиши» (chichis), как она их называет. Свое отношение к ним она выражает меткой формулой: «Есть ли шиши в белой полосе, остающейся после аэроплана? Нет, и в них нет нужды! Я сочиняю свои коллекции, думая об аэропланах».
Заметим мимоходом, что доктрина и практика Шанель в глубинной основе своей – классические. Мольер, Буало и Лабрюйер, говоря о стиле, не имели другого идеала, кроме простоты и строгости, других врагов, кроме сложности и претенциозности. Габриель, получившая более чем скромное образование, инстинктивно потянулась к основным принципам эстетики Великого века – в этом ее разительное отличие от всех других подруг по ремеслу.
* * *К несчастью, в ту самую эпоху, когда Габриель пыталась найти спасение от свалившегося на нее горя в работе, грянули политические и социальные события 1936 года, нарушившие ее планы. Разумеется, она, как и большинство ее соотечественников, тяжело переживала реоккупацию немецкими войсками левого берега Рейна в марте 1936 года. Президент французского совета Альбер Сарро яростно изобличал это наглое нарушение рейхсканцлером Гитлером Версальского договора, торжественно заявляя: «Но на деле эта угроза не возымела никакого воздействия». Это было первым из долгой череды отступлений, которые, подогревая пыл вождя нацистов, три года спустя привели ко Второй мировой войне.