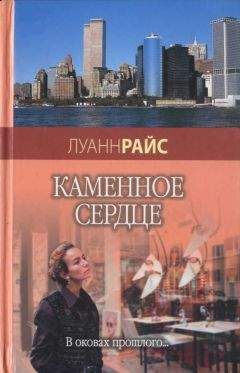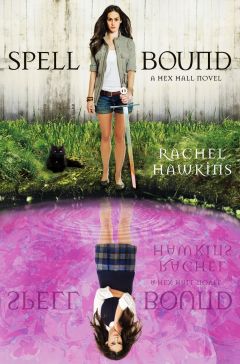Мария Белкина - Скрещение судеб
Но то, что для Марины Ивановны века болезнь, то для ее мужа, для Сергея Яковлевича — единственный выход заплутавшегося в своей безысходности века и единственный выход для него самого! «Бузина багрова! багрова» — его тянет в этот край, который бузина забрала в лапы, и это нечто вроде преступной страсти, которая в конечном итоге и приводит его на эшафот…
Бузина меж тобой и мной…
Марина Ивановна уделяет особое внимание и особенно много работает над стихотворением, посвященным Сергею Яковлевичу:
Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —
На собственной руке и на стволах
Березовых и — чтобы всем понятней! —
На облаках — и на морских валах —
И на стенах чердачной голубятни[69].
Как я хотела, чтобы каждый цвел
В века́х со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-на́крест перечеркивала — имя…
Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! внутри кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.
Стихи эти были написаны в 1920 году, когда Сергей Яковлевич пропал без вести и был для Марины Ивановны недосягаем; теперь, в 1940-м, он тоже «пропал без вести» и тоже — недосягаем…
Теперь, в 1940-м, Марину Ивановну не устраивает вторая строфа, она хочет ее усилить, и, по словам Али, в октябрьской тетради можно найти более сорока вариантов этой строфы.
Чем только не писала — и на чем?
И под конец — чтоб стало всем известно!
Что ты мне Бог, и хлеб, и свет, и дом! —
Расписывалась — радугой небесной.
И лезвием на серебре коры
Березовой, и чтобы всем известно,
Что за тебя в огонь! в рудник! с горы! —
(Что ты — един, и нет тебе поры —)
Друзьям в тетради и себе в ладонь,
И, наконец, чтоб было всем известно —
Что за тебя в Хвалынь! В Нарым! в огонь!
Чем только не писала — и на чем?
И наконец, чтоб было всем известно:
Что нет тебя второго в мире всем,
И на стволах, не знающих сует…
И наконец, чтоб было всем известно,
Что Ты — Аллах, а я — твой Магомет —
(Не позабыть древесную кору…)
И наконец, чтоб было всем известно,
Что без тебя умру, умру, умру!
Расписывалась — радугой небесной.
И этими стихами: «Писала я на аспидной доске…» она не только открывает свой сборник 1940 года, но и, желая подчеркнуть особое значение этих стихов, особое их место в книге, просит поместить их на отдельной странице, — о чем говорит ее пометка на беловой рукописи, сделанная красным карандашом: «NB! Это стихотворение прошу на отдельном листке».
Она остается верна себе и Сергею Яковлевичу. Выступая тогда в 1921 году на вечере поэтесс, устроенном Брюсовым, она бросает в зал, где сидят холодные, голодные курсанты, стихи из «Лебединого стана», прославляющие Белую армию, белогвардейцев и в первую очередь ее белогвардейца, Сергея Яковлевича. Как тогда она была — поверх всех крепостей и тюрем, — так и теперь. Как тогда: «Чем с другим каким к венцу, так с тобою к стеночке!» — так и теперь: «Что за тебя в Хвалынь! в Нарым! в огонь!.. Что нет тебе второго в мире всем!..» И это не просто слова — это крик ее души: Сергей Яковлевич для нее действительно един, и как последовала она за ним тогда в эмиграцию и как из эмиграции обратно, в Советскую Россию, так и последовала бы она за ним и на каторгу в Сибирь…
И каким бы ни казался странным для постороннего взгляда их брак, брак этот был все же союзом, союзом ли душ, союзом ли одиночеств, но союзом, и разорвать этот союз могли только насильственным путем…
— Для меня в жизни прежде всего работа и семья, все остальное — от избытка сил, — сказала она Тагеру.
Избыток сил еще был… И в той же черновой октябрьской тетради, в которой она работает над стихами для своей новой книги, есть и набросок письма к Арсению Тарковскому. Сначала заочно, потом очно она начинает увлекаться этим поэтом с тонким нервным лицом, со вздернутыми к вискам мефистофельскими бровями, талантливым и молодым.
Где-то в октябре ей в руки попадает его книга переводов Кемине. Ее восхищают переводы, и, не зная еще адреса поэта-переводчика и не видя его никогда, она пишет ему письмо, с недомолвками и полунамеками, письмо молодой, а отнюдь не уставшей и замученной жизнью женщины.
Подлинника письма не сохранилось, все книги и бумаги Тарковского погибли в дни войны, когда она был на фронте и в госпитале. Есть только черновик письма, переписанного Алей для кого-то из тетради Марины Ивановны, и случайно пошедший гулять по рукам и напечатанный за рубежом, — то, чего Аля так всегда опасалась. Я даю точную копию черновика:
«Милый тов. Т.
Ваша книга — прелестна. Как жаль, что Вы (то есть Кемине) не прервал стихов. Кажется на́: У той душа поет — дыша. До (нрзбр) камыша… (Я знаю, что так нельзя Вам, переводчику, но Кемине было можно — (и должно). Во всяком случае, на этом нужно было кончить (хотя бы продлив четверостишие). Это восточнее — без острия, для (нрзбр) — все равноценно.
Ваш перевод — прелесть. Что́ Вы можете — сами? Потому что за другого Вы можете — всё. Найдите (полюбите) — слова у Вас будут.
Скоро я Вас позову в гости — вечерком — послушать стихи (мои), из будущей книги. Поэтому — дайте мне Ваш адрес, чтобы приглашение не блуждало — или не лежало — как это письмо.
Я бы очень просила Вас этого моего письмеца никому не показывать, я — человек уединенный, и я пишу — Вам — зачем Вам другие? (руки и глаза) и никому не говорить, что вот, на днях, усл. мои стихи — скоро у меня будет открытый вечер, тогда — все придут. А сейчас — я Вас зову по-дружески.
Всякая рукопись — беззащитна. Я вся — рукопись.
МЦ»
И снова начинается волшебная игра, и Марина Ивановна ткет уже серебряную паутину, которая, как эолова арфа на ветру, будет звучать музыкой стихов. Когда-то она писала: «Так, выбившись из страстной колеи, Настанет день — скажу: «не до любви!» Но где же, на календаре веков, Ты, день, когда скажу: «не до стихов».
Из «страстной колеи» она так и не сумела выбиться, но день, когда «не до стихов», все же пришел. Стихи — это работа, и на эту работу нет времени и сил, потому стихов так убийственно мало! Но даже та малость, те несколько законченных стихотворений, и незаконченных, и отдельные строфы, которые есть в тетрадях последних российских лет, говорят о том, что талант ее не оскудел и что стихи были и сопровождали ее до конца дней, и это только нам осталась «непоправимо белая страница»…