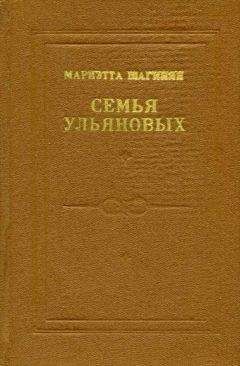Мариэтта Шагинян - Иозеф Мысливечек
Спиной к нам, слева, стоит старый аббат Лонго, он говорит что-то, подняв кисть правой руки. Прислушиваясь не столько к нему, сколько к соседу своему за столом, читающему вслух из большой книги, сидит в позе секретаря, с гусиным пером в руке над открытой тетрадью, совсем молоденький, очень красивый, черноглазый и чернобровый, младший из братьев Верри — граф Алессандро Верри. А тот, кого он слушает, чтоб записать, с трудом наклонил большую умную крупноносую голову над собственным круглым, как шар, животом, крепко обтянутым белым атласным жилетом; он скрестил под столом толстые ноги, закинул левую руку за спинку стула, а правой придерживает книгу, — этот толстяк — один из знаменитейших писателей тогдашней читающей Европы, маркиз Чезаре Беккария. Возле них, вытянувшись, стоит тоже еще совсем молоденький Г. Д. Биффи. За правым столиком сидят над каким-то стеклянным ящиком пытливый, с приподнятыми бровями Л. Ламбертеги, затем старший из братьев Верри — осанистый граф Пьетро; а за ними, с газетой в руках, пожилой виконт Джузеппе ди Саличето.
Все они, подобно нашим декабристам, знатные люди Милана, основатели и первые члены «Академии борцов». О каждом можно было бы рассказать целую историю — так хорошо они вышли на этой картине. И удивительно живут брови и глаза в своей черноте — под белыми как снег париками, белыми, какой никогда не бывает нормальная человеческая седина. Понимаешь, до чего шла эта яркая белизна париков смуглым и черноглазым женским лицам.
Но я утонула бы в деталях, если б остановилась на каждом. Оставим поэтому их особые журнальные псевдонимы (очень, кстати сказать, похожие и на аллегорические прозвища сотрудников наших русских сатирических журналов эпохи Новикова, и на масонские клички того же времени); оставим без биографий Лонго, Саличето и Ламбертеги и только представим читателю трех действующих лиц миланской академии, постоянных гостей в салоне Фирмиана, отлично знакомых с падре Мартини, слушавших мальчика Моцарта, грациозно раскланивавшихся, по моде времени, и с Мысливечком, и с другими приезжими музыкантами, бывавшими во дворце Фирмиана: двух братьев Верри (сейчас они пишутся в Италии через одно «р») и Чезаре Беккария.
Старший, Пьетро Верри, родился в 1728 году и вошел в родную литературу еще юношей, остроумно выступив против суеверий, астрологических шантажей, традиционализма и старых обычаев. Тридцати лет он основал «Академию борцов», выпустил анонимно в Ливорно свою знаменитую «Речь о счастье» (Discorso sulla felicità), писал много об экономике, экономической политике, истории Милана, о свободе торговли зерном и, наконец, в 1777 году выпустил книгу, которая переиздается в Италии и сейчас может послужить великолепной школой для тех, кто пишет популярные брошюры.
Пьетро Верри сумел создать увлекательнейшую методику для таких брошюр. Книга его посвящена гневному протесту против пыток, спрятанному в форму юридического анализа «пользы» пыток, к которым тюремщики прибегали, чтоб заставить заключенного «сказать правду». Эта сильная и умная книга «Замечания о пытках» («Osservazioni sulla tortura») переиздается уже двести лет (передо мной лежит ее последнее издание 1950 года), и читается она так же легко и с увлечением, как два века тому назад. Вместе с вышедшей гораздо раньше ее знаменитой книгой Чезаре Беккария «О преступлениях и наказаниях» эти две книги — одно из самых гуманных, самых страстных проявлений человечности восемнадцатого века. Они сыграли огромную роль в изменении оставшихся от средневековья чудовищных судебных и тюремных порядков и легли в основу новых юридических законов.
Обе эти книги часто сравнивают, но они совершенно разные. Книга Беккария — отвлеченная речь гуманного человека против смертной казни — философская, убедительная, полная высокого разума и высокой доброты. Она произвела огромное впечатление в тогдашней Франции, где всё находилось в предреволюционном брожении. Однажды, рассказывал впоследствии ее переводчик на французский язык аббат Морелэ, он сидел за обеденным столом с видными французскими деятелями, и один из них, протянув ему итальянскую книгу Беккария, сказал — попробуйте-ка переведите первую фразу! Первая фраза действительно была очень сложна, туманна и трудно переводима, но аббат Морелэ блестяще с ней справился, и ему был поручен перевод «Преступлений и наказаний». В 1765 году книга уже продавалась в его переводе в Милане[48].
Маленькая книжка Пьетро Верри написана совсем в другом духе, а послужила той же цели и заставила говорить о себе не меньше, чем ее предшественница. Что сделал Пьетро? Он начал с… чумы, опустошившей Милан в 1630 году. Эта чума стала причиной судебного процесса против тогдашнего комиссара здравоохранения, врача Гульельмо Пиаццо, который был обвинен в ее возникновении. Шаг за шагом, описывая пытку, которой был подвергнут Пиаццо, Пьетро Верри рассказал, как под влиянием нестерпимых мук Пиаццо оговорил цирюльника Моро, чтоб только прекратилась пытка. Потом начали пытать Моро, за ним — другого, третьего, оговоренных и оговаривающих, и, обнажив всю дикую цепочку бессмысленных человеческих страданий, вынуждающих лгать и оговаривать, Пьетро Верри в главе за главой, как ступень за ступенью, с железной логикой отвечает на вопрос, может ли пытка повести к правде, имеют ли судьи в ней помощника, а не наоборот, и приводит возмущенные мнения о пытках всех больших людей начиная с античных времен. Дикая нелепость этого средства, созданного к тому, чтоб неминуемо вести вместо правды ко лжи и наговору, так ясно и бесспорно открывается под ясным и спокойным аналитическим пером Верри, что действует она сильней на читателя, нежели любые отвлеченные речи. И как интересно читать и читать ее даже и сейчас, любуясь умением автора идти через частные факты к общему выводу.
Книга Чезаре Беккария лежала на столе у Дураццо, когда молодой Мысливечек заканчивал свои занятия с Пешетти; она встретила его и в Милане, в гостеприимном дворце Фирмиана. Маленькую книжечку Пьетро Верри, но уже под конец своей жизни, он мог прочитать в Неаполе, в Риме, в том же Милане, где побывал в последний раз в 1778 году. Он знал обоих авторов, бывал с ними под одной крышей и мог ли не интересоваться их книгами, прогремевшими по всей Европе?
Новый век стучался во все двери, по-своему проникая в каждую. То был век первых шагов электричества, еще только начинавшего свою раннюю зорю, в наивных опытах, которые ставились для гостей в миланских, флорентинских и неаполитанских салонах, — дамами и царедворцами, писателями и дипломатами, авантюристами типа, Казановы и светским аристократом лордом Гамильтоном. Электрическая сила проявляла себя в синтезе, в искре, рожденной от сочетания положительного и отрицательного начал, а ее великое и плодотворное значение для человечества выразилось не только в том, что первым даром ее был свет, вспыхнувший в лампочке Яблочкова, но и в том, что за нею, как за новой эпохой в физике, рождалась на свет своя великая, исполненная таланта и высоких гуманистических идей «метафизика». XVIII века, все то, что неизменно следует во времени за всяким новым периодом физики — в философии, правоведении, поэзии, музыке, изобразительных и строительных искусствах.