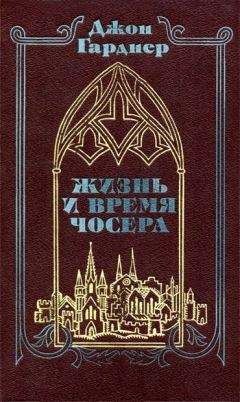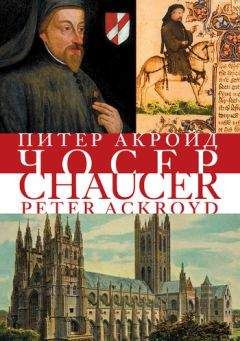Вильфрид Штрик-Штрикфельдт - Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное Движение
Меня ввели в камеру № 97. Дверь за мной захлопнулась.
Камера – зарешеченная дыра с двухэтажными деревянными нарами. На нарах – мешки с соломой. Камера была так узка, что вытянуть руки в стороны я не мог.
Мне следовало бы, возможно, на этом кончить свои записки. Личные переживания, обычно, интересны лишь близким. Но, описав мои личные переживания на фоне больших событий, может быть, я всё же могу коротко оглянуться на мое одиночество в тюрьме.
Два раза в день – в 8 и в 16 часов – в камеру приносили еду: гороховый суп и сардинку или кусок шоколада. Еды было немного, но качество ее было хорошим. Иногда ничего не давали, но, видимо, без умысла, а просто потому, вероятно, что моя камера была последней. И вот, иногда не хватало порций.
Дважды в неделю меня выводили на несколько минут в тюремный двор, всегда в сопровождении конвоира. Однажды, когда я делал по двору свои два круга, конвойный беспрерывно направлял на меня свой автомат. Он был нетрезв.
Если пленному нужно было в уборную, он должен был дать нечто вроде железнодорожного сигнала. Но бывало, что дежурный, судя по настроению, лаконично извещал: «No – на сегодня довольно!»
Однажды мне сделали прививку и не сказали, против чего или почему. Один раз у меня был прострел, и я мог лежать только на полу. Врач помог мне в течение нескольких дней встать на ноги и запретил охране выгонять меня в холодную умывалку, что делалось ежедневно по утрам.
Не давали ни чтения, ни курева. В лагере в Мангейме нам раздали томики маленького английского издания Нового Завета, – мне удалось сохранить его.
Решетка на левом верхнем углу окошка, выходившего во двор, была обломана; в отверстие, шириною в руку, был виден край крыши соседнего барака, стоявшего поперек к нашему. Я был счастлив и благодарен Творцу, когда там садились воробьи и я видел живые существа.
При приеме сюда, записывали наши личные данные. При этом сержант бросил мне прямо в лицо толстую книжку:
– Вы видели это? Фотографии из Дахау! Посмотрите-ка!
Сержант не поверил мне, что я не знал о страшных жестокостях, творившихся в немецких концлагерях. Он не верил мне так же, как и мы, немцы и русские, не могли поверить в измену свободе со стороны свободной Америки.
Охране было запрещено разговаривать с нами, и караульные ограничивались короткими указаниями. Только через звуки поддерживалась для меня связь с внешним миром. И удивительно обостряется слух: щелчок электрического выключателя, дребезжание посуды, отпирание и запирание дверей камер… вот в коридор въехала тележка с едой… она приближается… справа… ближе… еще ближе… моя дверь следующая… Дадут сегодня поесть? или опять пропустят?..
Однажды со мной случилось то же, что со старым Вейхсом. Когда меня привели от лагерного врача к моей камере, я не смог быстро сориентироваться в полутьме и не заметил открытой двери камеры. Пинком ноги солдат втолкнул меня в камеру. Я растянулся на полу. Когда я поднялся, мне казалось, что я не смогу и не должен пережить этого унижения. Я сел на край нар, вынул спрятанное мною лезвие безопасной бритвы, чтобы вскрыть себе вены. Тут взгляд мой упал на томик Нового Завета. Я открыл его наугад и прочел в Евангелии от Иоанна: «…без Меня не можете творить ничего».
Да. Вы можете калечить мое тело, – я посмотрел на мои ободранные ноги, – но меня, мою честь, Божий лик во мне вы не можете затронуть. Тело – лишь оболочка, не я сам. Без Него, без Господа, моего Господа, вы не можете творить ничего.
Я почувствовал прилив душевных сил. Я сидел и прислушивался к совершающемуся во мне чуду душевного перелома. Вдруг повернулся тяжелый ключ в дверном замке. Вошел молоденький американский солдат. Приложив палец к губам, он прошептал: «Я видел всё. Вот вам печеная картошка». Он вынул несколько картофелин из кармана брюк и протянул мне. Затем быстро вышел и запер дверь.
* * *Кончая мои записки, я хотел бы вспомнить еще капитана Дэвида. Может быть, это было и не настоящее его имя. Капитана Дэвида мы узнали в лагере Мангейм – там отношения между победителями и побежденными носили отпечаток человечности. Дэвид был евреем, германского происхождения, вероятно, пострадал от нацистов. Но чувство мести было ему чуждо. Это он, вместе с пленными, оборудовал в Мангейме помещение для богослужений; это он, незаметно, но очень настойчиво, добивался различных облегчений для нас.
Я уже месяцы сидел в одиночной камере, не имея представления, где я нахожусь и почему меня так держат. Однажды, совершенно неожиданно, в темном коридоре, когда меня вели от лагерного врача, я встретил капитана Дэвида. Дэвид узнал меня и спросил номер моей камеры. Через несколько минут он пришел ко мне и спросил:
– Как дела? Впрочем, что за глупый вопрос! я вижу, что вам не хорошо. Но будьте довольны, что вы здесь, в американской тюрьме, на свободе – тоже нехорошо. Хотя вы и не советский подданный, но вы были так тесно связаны с русскими, что лучше, если вы посидите здесь.
(Лишь позже я понял, что означали эти слова: понял, когда узнал, что союзники обязались в Ялте выдать Советскому Союзу всех бывших советских граждан; под действие этого соглашения, при определенных условиях, попадали и немцы. В Декларации Объединенных наций о правах человека заявляется, что каждый имеет право искать политического убежища в чужой стране. Но в «освобожденной Германии» русских людей выдавали, против их воли, советским палачам, при этом, в некоторых случаях, американские солдаты с автоматами выгоняли русских даже из церквей.
С отказом от прав человека наступил конец Освободительного Движения Народов России.)
Капитан Дэвид подробно расспросил обо всем, что меня волновало, но заметил при этом, что в нашем лагере он лишь временно заменяет товарища. (Из этого я сделал вывод, что наш лагерь размещен недалеко от Мангейма.)
Совсем неожиданно для меня он вспомнил, что в Мангейме я декламировал свои стихи, и сказал: – Я пришлю вам бумагу и карандаш… и что-нибудь почитать… и табак для вашей трубки, и спички…
Он сам принес всё это мне в камеру. Для чтения – Гульбрандсена «И вечно поют леса».
Капитану Дэвиду обязан я и тем, что в последние недели заключения уже не страдал от ставшего почти невыносимым одиночества: в мою камеру поместили образованного и симпатичного молодого русского эмигранта. Игорь – как звали моего нового друга – декламировал стихи Пушкина и Лермонтова, а я переводил их на немецкий язык. За те несколько недель, что мы провели вместе, мы стали настоящими друзьями.
Капитану Дэвиду я обязан и первым настоящим допросом за все месяцы сидения в камере и, наконец, моим освобождением.
Эти воспоминания – не запись моих переживаний. И я не хочу вызывать в памяти своего отчаяния и своих страхов. Но и выстраданный мною опыт, и память о выпавшей на мою долю милости Божьей останутся со мной всю мою жизнь.