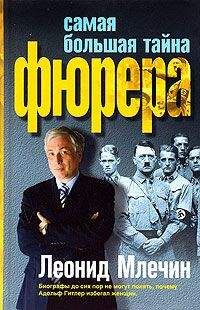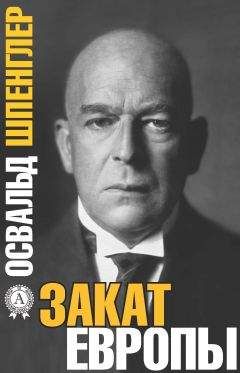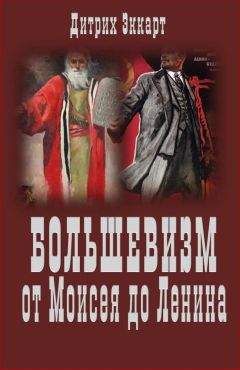Эрнст Ганфштенгль - Гитлер. Утраченные годы. Воспоминания сподвижника фюрера. 1927-1944
Однажды во время обеда в канцелярии для всех наместников он вдруг выкопал мое прошлое предложение 1925 года о мировом турне. Он выдал одно из своих нескончаемых резюме на тему истории партии – его любимый предмет – и о потрясающих трудностях, с которыми он столкнулся, перестраивая ее после Ландсберга. «И что же предложил наш мистер Ганфштенгль в это время, господа? Он предложил, чтобы я бросил Германию и расширил свой кругозор за границей». Конечно, это вызвало громкий залп издевательского смеха, поэтому я стал возражать и заявил, что ценный опыт очень был бы полезен для того поста, на котором он сейчас очутился. «Да что есть Америка, кроме миллионеров, королев красоты, дурацких рекордов и Голливуда… – прервал он меня. – Я вижу Америку оттуда, где я сижу, намного яснее, чем когда-либо знал ее». Чистейшей воды мегаломания. Из всех гостей только фон Эпп понимающе слегка пожал плечами в мою поддержку. Все бесполезно. Гитлер никогда не учился. Его никогда невозможно застать наедине, а когда рядом были Шауб, либо Брюкнер, либо какой-нибудь наместник, он начинал вопить, как будто находился на публичном митинге. Только в таком тоне и в такой среде он чувствовал себя дома.
Его непримиримость в отношении зарубежных стран была почти патологической. Где-то в 1933 году Нейрат предположил, что для нас может быть очень полезным возвратить египтянам знаменитую головку царицы Нефертити. Она была найдена немецкими археологами, и ее реставрация предусматривалась Версальским договором. Я предложил этот план как средство для улучшения отношений между Германией и Средним Востоком. «Ну что я вам говорил! Наш мистер Ганфштенгль готов все раздать!» – так комментировал это Гитлер. Я возразил, что идея состояла в том, чтобы устроить эту церемонию как предлог для дружеских переговоров, но Гитлер оборвал дискуссию, заявив, что сам факт, что Версальский договор требовал возвращения этого бюста, – достаточная причина для того, чтобы не делать этого.
И еще один образчик творений его ума возник в результате запоздалого дипломатического признания Америкой Советского Союза в ноябре 1933 года, насколько я помню. Мы ехали поездом из Берлина в Ганновер, когда ему передали эту новость, и он вытащил меня из моего купе, чтобы обвинить меня за это. «Ну, что я вам говорил, Ганфштенгль, ваши друзья-американцы объединились с большевиками», – приветствовал он меня. «Это ставит все остальные нации в одну и туже категорию», – сказал я ему. «Так мы признали их столько лет назад. – От Гитлера не так-то просто было отделаться. – Тот факт, что Америка сделала это сейчас самостоятельно – доказательство того, что я говорю», – настаивал он. Все, чего он хотел на самом деле, – это найти какое-нибудь средство, чтобы принизить меня перед остальными людьми из своего окружения.
Моя деятельность в роли шефа зарубежной прессы давала им бесконечные возможности, чтобы пошатнуть мою позицию. Был такой случай. Один арабский профессор, написавший биографию Гитлера, обратился ко мне с просьбой быть представленным ему. Скажу, что выглядел он как три действующих лица из Ветхого Завета, все спрессованные в одном человеке, но я, тем не менее, отвез его в Байрейт, где остановился Гитлер, чтобы наткнуться на залп презрительных замечаний от Брюкнера и компании по поводу моего подопечного. Однако я проявил настойчивость. Когда нас вели в сад, Гитлер только что расстался с группой красивых белокурых членов его молодежной организации, и, когда он увидел моего спутника, он чуть не сел на пол от изумления. Сомневаюсь, чтобы он когда-либо до этого видел араба. Я сообщил ему, что этот посетитель – достойный автор, который сравнил его в его биографии с Мохаммедом. К счастью, экземпляр книги, который он подал ему для автографа, был целиком на арабском, так что Гитлер оказался не мудрее меня.
Стоит ли говорить, что этот визит на недели стал больной темой в разговорах с шоферней. Мне приходилось проходить через подобное каждый раз, когда я устраивал интервью для иностранного корреспондента, обладающего некоторой независимостью ума, потому что всегда прочитывались полные отчеты об их статьях, и на меня всегда возлагали вину за все, кроме похвальных фраз. Другой моей проблемой было давление на Гитлера со стороны Геббельса, который хотел заполучить под себя отдел иностранной прессы. Я достиг с Отто Дитрихом модус вивенди и имел дружеские отношения с людьми Нейрата в МИДе. Бывали отдельные нападения со стороны Розенберга и, конечно, Боля, который создавал свою организацию зарубежных немцев, но больше всего проблем исходило от Геббельса. Естественно, Гитлер обожал такого рода жульничество, которое шло на всех уровнях и позволяло ему удерживать контроль в своих руках.
Дьявольским гением второй половины карьеры Гитлера был Геббельс. Я всегда уподоблял этого насмешливого, ревнивого, злобного, по-сатанински одаренного карлика рыбе-лоцману акулы по имени Гитлер. Это тон окончательно превратил Гитлера в настроенного фанатически против всех установленных институтов и форм власти. Он был кичливым, тесно привязанным и бесконечно податливым. У него были какие-то водянистые глаза и чудесный голос и постоянный поток злобных новинок. Он был воплощением запрещенной социалистической печати с националистическим глянцем. Он снабжал Гитлера всей информацией, которую тот не мог прочесть в своих собственных газетах, вместе с отталкивающими, непристойными маленькими историями как о врагах, так и о друзьях. Его комплекс неполноценности, конечно, происходил от его хромой ноги, и я, возможно, один из немногих доживших до сего дня людей, кто видел его без обуви. Это было в их квартире в рейхсканцелярии. Мы возвратились из-под проливного дождя. Сейчас уже не помню точно обстоятельств, но мы что-то торопливо обсуждали, когда Магда повела меня вместе с ними в его комнату для переодевания. И тут я увидел его правую ногу с надетым на нее носком, и она была похожа на кулак, страшная, и это был, так сказать, Геббельс по своей сути. Правой рукой он отдавал салют коммунистам, а левой выполнял нацистское приветствие. Он был не только шизофреником, но и шизопедиком, и это делало его еще более страшной личностью.
Он был вторым по-настоящему великим оратором в партии, и его горизонты, как и у Гитлера, были широкие, как «Шпортпаласт». Он видел только свою аудиторию и думал, что, если сможет напоить ее допьяну своими словами, вся страна тоже опьянеет и что его пьянство может быть переведено на английский, французский и любой другой язык и может быть отправлено на экспорт, как готовое к употреблению безумие. Я обычно называл его Геббельспьер, что впоследствии дошло до него, и он меня возненавидел за это, ибо, клянусь, многие пассажи в его речах были заимствованы прямо из Робеспьера.