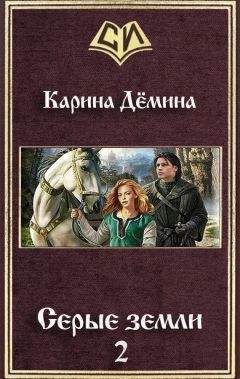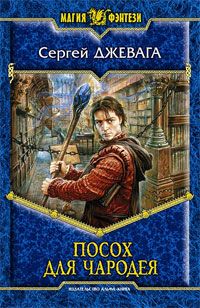Анри Труайя - Николай Гоголь
«Будь я живописец, хоть даже плохой, я бы был обеспечен. Здесь в Риме около пятнадцати человек наших художников, которые недавно высланы из академии, из которых иные рисуют хуже моего: они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры – я был бы обеспечен: актеры получают по 10 000 и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель – и потому должен умереть с голоду…Я думал, думал и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к государю. Он милостив; мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему „Ревизору“. Я написал письмо, которое прилагаю; если вы найдете его написанным как следует, будьте моим предстателем, выручите! Если же оно написано не так, как следует, то – он милостив, он извинит бедному своему подданному. Скажите, что я невежа, незнающий, как писать к его высокой особе, но что я исполнен весь такой любви к нему, какою может быть исполнен один только русский подданный, и что осмелился потому только беспокоить его просьбою, что знал, что мы все ему дороги как дети… Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся, тем более что в Италии жить дешевле. Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои повести: „Старосветские помещики“ и „Тарас Бульба“. Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам; все недостатки, которыми они изобилуют, вовсе неприметны были для всех, кроме вас, меня и Пушкина. Я видел, что по прочтении их более оказывали внимания. Если бы их прочел государь! Он же так расположен ко всему, где есть теплота чувств и что пишется от души. О, меня что-то уверяет, что он бы прибавил ко мне участия. Но будь все то, что угодно Богу. На его и на вас моя надежда».[197]
В. А. Жуковский не смог получить пансион, на который возлагались такие надежды, но, откликнувшись на просьбу Жуковского, император выслал Гоголю пять тысяч рублей. Тот взорвался в благодарности.
«Я получил данное мне великодушным нашим государем вспоможение. Благодарность сильна в груди моей, но излияние ее не достигнет к его престолу. Как некий бог, он сыплет полною рукою благодеяния и не желает слышать наших благодарностей; но, может быть, слово бедного при жизни поэта дойдет до потомства и прибавит умиленную черту к его царственным доблестям. Но до вас может досягнуть моя благодарность. Вы, все вы! Ваш исполненный любви взор бодрствует надо мною!»[198]
Освобожденный на время от денежных забот, он предается безделью без особых на то угрызений совести. Под ласковым солнышком Рима расцветала его «украинская лень». «Мертвые души» оставлены в покое до лучших времен. Когда средства Гоголя вновь исчерпались, он просит в этот раз Погодина: «Если ты богат, пришли вексель на две тысячи. Я тебе через год, много через полтора, их возвращу».[199]
М. П. Погодин, С. Т. Аксаков и еще несколько его московских друзей не без труда собрали деньги и направили ему эту сумму. Растроганный до слез, Гоголь отвечает Погодину:
«Благодарю тебя, добрый мой, верный мой!.. Далеко, до самой глубины души тронуло меня ваше беспокойство о мне! Столько любви! Столько забот! За что это меня так любит Бог?.. Боже, я недостоин такой прекрасной любви! Ничего не сделал я! Как беден мой талант! Зачем мне не дано здоровье? Громоздилось кое-что в этой голове и душе, и неужели мне не доведется обнаружить и высказать хоть половину его? Признаюсь, я плохо надеюсь на свое здоровье».[200]
Он злился на свое слабое здоровье, которое постоянно напоминало о себе. В то время как он желал стать одним только духом, то урчание, то резь, то подозрительное жжение в желудке каждую минуту возвращали его к реальности плоти. Несомненно, он был создан не как все остальные. Его внутренние органы, нервы, вены, кости сочетались особенным образом, думал он, что трудно определить научным способом. Обычные лекарства не действовали на него. Он должен был изобрести свое собственное лечение и жить без страданий. Самое неприятное для него было также то, что он не мог потеть. Вокруг жара, а его тело оставалось сухим. Да еще бурление в кишечнике. Врачи находили у него лишь признаки болезни, причиной которой был геморрой. Да что они в этом понимают?
«Я боюсь ипохондрии, которая гонится за мной по пятам, – пишет Гоголь Прокоповичу. – Желудок мой гадок до невозможной степени и отказывается решительно варить, хотя я ем теперь очень умеренно. Геморроидальные мои запоры начались опять и, если не схожу на двор, то в продолжение всего дня чувствую, что на мозг мой как будто бы надвинулся какой-то колпак, который препятствует мне думать и туманит мои мысли… У меня легкость в карманах и тяжесть в желудке».[201]
И Данилевскому:
«Помоги выбрать или заказать для меня парик. Хочу сбрить волоса, – на этот раз не для того, чтобы росли волоса, но собственно для головы, не поможет ли это испарениям, а вместе с ним и вдохновению испаряться сильнее. Тупеет мое вдохновение; голова часто покрыта тяжелым облаком, которое я должен беспрестанно стараться рассеивать, а между тем мне так много еще нужно сделать».[202]
И князю Вяземскому:
«Италия продлила мою жизнь, но искоренить совершенно болезнь, деспотически вошедшую в состав мой и обратившуюся в натуру, она не властна. Что, если я не окончу труда моего?.. О, прочь эта ужасная мысль! Она вмещает в себе целый ад мук, которых не доведи Бог вкушать смертному».[203]
Однако между двумя приступами болей он производил хорошее впечатление. Его видели то молчаливым, с искаженным от боли лицом, с грустным взглядом и с рукой на животе, то он весь сиял оптимизмом, был весьма экстравагантно одет, бодро двигался, острил, звонко смеялся и кушал с аппетитом. Завсегдатай итальянских тратторий, он вдыхал своим длинным носом запахи кухни и определял для себя заранее, какие блюда он закажет.
«Обедаю же я не в Лепре, но у Фалькона, знаешь, что у Пантеона? Где жареные бараны поспорят, без сомнения, с кавказскими, телятина более сытна, а какая-то crostata (хрустящий пирог, ит.) с вишнями способна произвести на три дня слюнотечение у самого отъявленного объедала», – писал он Данилевскому.[204]
Едва плотно и не спеша покушав, Гоголь, если ему случалось увидеть рядом с собой посетителя, который только что приступил к обеду, тут же заказывал себе то же самое, что и тот господин и снова с аппетитом ел.[205] Иногда, вернувшись домой, он готовил себе какую-нибудь «вкуснятину», чтобы скрасить себе вечер: варит козье молоко, добавляя туда сахар и ром. После подобного обжорства у него начинались боли в желудке, и он клялся себе, что впредь будет придерживаться диеты. Но, как только боли проходили, он снова предавался чревоугодию. Так и жил он, разрываемый страстью к великим идеям и роскошным обедам, с вечной любовью к Италии и ностальгией по мерзкой России, с поклонением культу красоты и желанием изображать уродство, с притязанием на искренность и необходимостью поплакаться, обманывать, раздваиваться, дабы избежать суда современников. Его друзья, считавшие, что знают его, когда виделись с ним, никогда не могли точно сказать, с кем они сегодня будут иметь дело, с жизнерадостным человеком или аскетом, с проповедником или любителем бильярда. Он терпеть не мог долго выносить одиночества. В Риме он уговорил Данилевского присоединиться к нему для совместного проживания. А переехав в дом 126 по улице Феличе, Гоголь пригласил И. Ф. Золоторева на какое-то время пожить вместе.