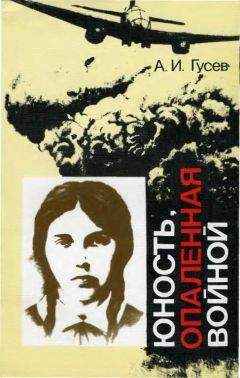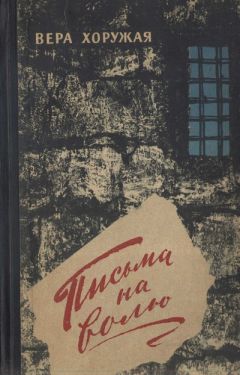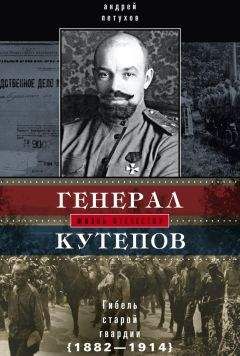Андрей Черныш - На фронтах Великой войны. Воспоминания. 1914–1918
Уступка офицерского батальона нажиму большевиков днем на открытом, чистом, как на ладони, месте красноречиво говорила о крайнем упадке сил и энергии в лучшей части 3-й дивизии – офицерским батальоне. Кошмарно тяжелые условия сидения в паршивых окопах на ветру и холоде, в легкой одежде, в постоянной тревоге, чувствительные потери, убыль лучшего элемента обессилили батальон. Поэтому прибывший батальон стрелков ждало уже новое приказание: после короткого отдыха, немедленно стать на позицию офицерского батальона, сменить его к рассвету.
В штабе у нас еще не спали, когда я прибыл. Дроздовский, сердитый и более мрачный, чем обыкновенно, встретил меня выговором за неточное и несвоевременное исполнение его приказания – вести стрелковый батальон к монастырю. Мои объяснения не произвели на него почему-то нужного впечатления. Мне было обидно и досадно такое его отношение ко мне. Казалось, налицо были все данные быть мне признательным за мою большую работу в качестве начальника штаба в очень тяжелых условиях. Отчужденность после этого между нами еще более возросла. Мое мнение, что из Дроздовского не мог выйти никогда крупный военачальник, все более утверждалось.
27-го днем никаких особенных событий не было.
В ночь на 28-е противник снова нажал на правом фланге, на участок не обстрелянных еще стрелков. Последние не выдержали, в беспорядке отступили, причем много офицеров разбежалось, распространяя по тылу невероятную панику. Часть из них, особенно позорно себя державшая (несколько человек), были пойманы чинами 2-й батареи полковника Протасевича, избиты ими и несколько человек, наиболее «отличившихся», доставлены были в штаб дивизии. Все это были молодые «офицеры» в кавычках из числа тех шкурников, что скрывались от добровольной явки в армию и были принудительно призваны. Дроздовский поступил с ними круто, но принятая мера вызвала общее одобрение. Тотчас был назначен военно-полевой суд, который после очень короткого разбирательства, ибо «дело» было слишком очевидное, нескольких человек приговорил к смертной казни, и до рассвета они были расстреляны.
День 28-го прошел в нескольких попытках противника наступать в разных местах, кончившихся безрезультатно. Наконец на рассвете 29-го наступил, наконец, конец нашему кошмарному сидению под «стенами» Ставрополя. Финал грустный, но тот именно, которого было много вероятия ожидать.
На рассвете большевики очень крупными силами навалились на злосчастных ставропольских стрелков, очень быстро смяли их и ринулись к монастырю, захлестывая доблестных самурцев с правого фланга и тыла. Пришлось им в очень трудных условиях уходить, уже не назад, в тыл прямо, а на участок 2-го офицерского полка, через предместье. И только левее (восточнее) монастыря им удалось выскользнуть из клещей. Потери их были чувствительны и одна невознаградимая: доблестнейший командир полка их, полковник Шаберт, был тяжело ранен и едва-едва избежал плена. С уходом самурцев на участок 2-го офицерского полка произошла невообразимая каша, в которой невозможно было что-либо разобрать. Рассвет только что наступил, когда мы повскакали и высыпали на монастырский двор. Пальба шла кругом. Пули шлепались с характерными хлопками вокруг нас. Мелькали какие-то фигуры, быстро исчезавшие за монастырем в северном направлении. Нам ничего не оставалось, как только уходить, и уходить немедля, ибо ясно было по выстрелам, что противник уже правее монастырского кладбища и пока еще в утренней мгле не совсем пробудившегося дня мы могли ускользнуть незамеченными. И мы поспешали. Некогда уже было даже сесть на лошадей. Конвой и наши лошади, едва заседланные и незаседланные, поспешно уводились и уже не через ворота, что выводили к северу на Пелагиадскую дорогу, а к северо-востоку через разобранный забор. Да и то много лошадей было переранено. Сгруппировавшись вокруг начальника дивизии, мы вышли из монастырского двора и полем направились, не особенно задаваясь куда, лишь выстрелов, раздававшихся сзади у нас и несколько сбоку в общем, по направлению свистевших пуль, примерно на северо-восток[263]. Справа и слева нас нагоняли и обгоняли какие-то одиночные люди. Помню – один из таких поравнявшихся со мною упал со стоном лицом вниз, и я подумал, что он убит, но, оказывается, потом он, раненый, поднялся и даже догнал меня. Тотчас вслед за этим щелкнула пуля в землю правее меня, и мой помощник генерального штаба полковник Махров, шедший несколько впереди и чуть правее меня, запрыгал на одной ноге. Но некоторое еще расстояние он, раненный в ногу, продолжал хромая и, видимо, сгоряча идти с нами, а потом его взяли на лошадь.
Достигнув железной дороги, у одной из будок мы остановились. За впереди лежащим гребнем монастыря, до которого было версты две с половиной – три, не было видно. Совсем рассвело. Наше отступление застопорилось и остановилось. Части дивизии постепенно брались в руки и приводились в порядок. Наступление большевиков прекратилось. Они понесли большие потери. К полудню дивизия пришла окончательно в порядок и закрепилась на линии в двух-трех верстах от монастыря, упираясь флангами: правым – в Казенный лес, левым в железную дорогу. На правом фланге был офицерский батальон, а за ним, в виде резерва, 3-я инженерная рота; на левом фланге теперь были самурцы, под командою полковника Ильина, заменившего раненого полковника Шаберта. Наш сосед слева – 2-я дивизия, Корниловский полк был теперь несколько уступом впереди нас.
В резерве дивизии – опять ничего. Мы – штаб дивизии – остались в железнодорожной будке снова почти на боевой линии: непосредственно почти впереди нас располагались самурцы, у самой будки, занятой штабом, стояла 2-я батарея.
Неудобство такого близкого расположения штаба дивизии столь очевидно, что нет надобности об этом распространяться, особенно в доказательствах. Достаточно вспомнить опыт Армавира (до меня), Татарки, монастыря. Малейшие колебания фронта сразу отражались на положении штаба. Невольно приходилось думать не об управлении войсками в критические, серьезные минуты, а о собственном спасении, чтобы не попасть в плен живьем. Эта постоянная почти ошибка Дроздовского и была причиной его личной гибели. Было бы до некоторой степени еще понятно, если бы Дроздовский имел резерв и в критическую минуту имел бы склонность лично водить его в дело, или даже без резерва – своим появлением и вмешательством в дело в критический момент в решающем пункте – лично воздействовать на войска и тем повернуть исход боя в нашу пользу. Но и этого никогда – при мне, по крайней мере, – не было. А тогда сидение штаба на войсках бессмысленно и вредно.