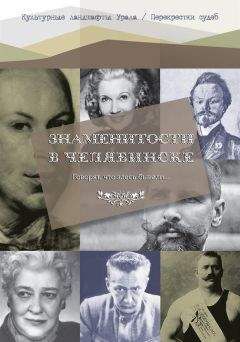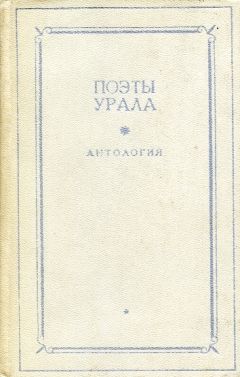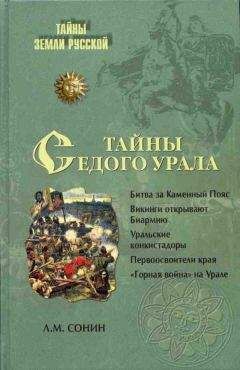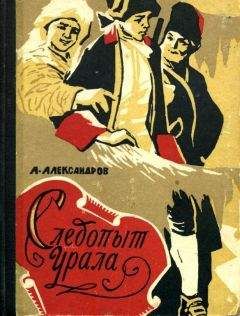Ирэн Шейко - Елена Образцова
Важа тоже вел себя не совсем обычно. Не говорил о сверхзадаче, сквозном действии и втором плане. Он милосердно не смотрел в сторону Образцовой, расточавшей себя в горестном перевоплощении. Играл Мусоргского мужественно, благородно, сурово и страстно.
Лишь раз он заметил, что «Без солнца», скорее, цикл монологов, интимных, трагических. Романсами их все-таки назвать трудно.
Однажды в конце урока я спросила, почему она взялась за этот «жуткий», по слову Асафьева, цикл, который обычно поют мужчины, басы — Христов, Нестеренко. Взялась она, женщина, певица, у которой все удается, сбывается, которая так счастливо выражает себя в искусстве, она, у которой есть молодость, талант, красота, силы, наконец, есть семья, ребенок и еще много такого, что привязывает человека к жизни, — взялась за музыку, рассказывающую о человеке, у которого изжито все, даже желание жить.
И снова, как когда-то, она посмотрела на меня, как взрослая на маленькую.
— Я много пою Мусоргского. «Песни и пляски смерти», «Светик Саввишна», «Гопак», «По-над Доном сад цветет»… Уж не говорю о Марине в «Борисе Годунове» и Марфе в «Хованщине». А «Без солнца» спеть хотела давно. Но не хватало драматического опыта жизни. А как стукнуло сорок лет, поняла: пора! Знаешь, я прожила столько жизней, что иногда мне кажется, что уже не страшно умереть.
— Ну, что ты такое говоришь!
— Правда! А с другой стороны, я стала суеверной. Во второй половине жизни важен не успех, а — успеть, писала Марина Цветаева. Успеть! Для меня это тоже очень важно.
Слушая ее, я думала, до чего же неисповедимы у художника зовы, веления к работе!
А сам Мусоргский! Разве не писал он «Без солнца», чтобы изжить в себе душевную тьму!
Это был 1874 год — год постановки «Бориса Годунова» в Мариинском театре.
«Я разумею народ, как великую личность, одушевленную единою идеею. Это моя задача. Я попытался разрешить ее в опере. Вам, что добрым словом и сочувственным делом дали мне возможность поверить себе на сцене, посвящаю мой труд. М. Мусоргский. 21 января 1874», — писал он на печатном экземпляре «Бориса Годунова» друзьям и единомышленникам по «Могучей кучке» за шесть дней до премьеры.
Успех был огромным.
В № 18 «Петербургской газеты» в разделе «Театральное эхо» появилась заметка: «Представление это было оглушительно как по звону колоколов и трубным звукам на сцене, так и по вызовам композитора-новатора. По поводу этой музыкальной новинки все наши музыкальные рецензенты стали в какой-то тупик. Они решительно не знают, хвалить или порицать оперу. Вследствие этого они то хвалят, то бранят. Все же вообще говорят, что опера эффектная, но дисгармония полная — хаос, хаос, хаос!!»
Издевательски-высокомерные статьи Г. А. Лароша, которые в кругу В. В. Стасова назовут «художественным доносом».
Среди хулителей «Бориса Годунова» оказался соратник по «Могучей кучке» — Цезарь Кюи, который во всем находит незрелость: «и в либретто… и в увлечении звукоподражанием, и в низведении художественного реализма до антихудожественной действительности…»
Мусоргский пишет Стасову: «Тон статьи Кюи ненавистен…»
После постановки «Бориса Годунова» жизнь Мусоргского не стала легче. Страшащийся одиночества, он сделался еще более одиноким, когда иные друзья не приняли его музыки.
В это время Мусоргский особенно сближается с молодым поэтом Арсением Аркадьевичем Голенищевым-Кутузовым. Они поселяются вместе в одной квартире, на Шпалерной. Вместе проводят все утра до двенадцати часов, когда Мусоргский уходил на службу. И все вечера.
Мусоргский нижайше почитает поэтический дар своего молодого друга. Он писал в письме Голенищеву-Кутузову: «Умоляю тебя: пойми и, если можешь, сердцем (еще бы нет!) — ты избранный, тебя нельзя не любить…»
Письма Мусоргского! Душа чистая, великая, трагическая являет себя без утайки, со всей откровенностью своих порывов, нежности, тоски. Верно сказал Георгий Васильевич Свиридов: «Переписка Мусоргского, в особенности его письма к Стасову, — поразительные человеческие документы, представляющие громадную ценность. По высказанным в них мыслям и по совершенно неподражаемому языку, которым они написаны, я мог бы сравнить их с письмами великого художника Ван Гога».
Но если в письмах к Стасову, Репину, Римскому-Корсакову — исповедальность замыслов и мыслей об искусстве, радости совершенного, сокровенное родство как с единомышленниками, то письма к Голенищеву-Кутузову — нерастраченная сила душевности, которая тянется к такой же, обнаженной и одинокой.
«Мой любый Арсений, я был уверен в содеявшемся. Ты напомнил твоею дружескою отповедью о „святой минуте“, когда, скромен и нем, я постиг Твою художественную душу. Ярко светит эта минута сквозь болотные потемки чиновного чернилища. Ошибся Ты в одном только: за что Ты вздумал благодарить меня? Разве я что-нибудь смел в Тебе, разве рисковал указывать Тебе? Я любил и люблю Тебя — и только. Почему люблю — спроси свою художественную душу: ответ нашелся».
Стихи Голенищева-Кутузова не остались в высокой поэзии. Но что с того! Спасибо им! Мусоргский услышал в них свое настроение, свою тоску, драму, одиночество и свою «ночь».
И стал писать.
Седьмого мая окончен романс «В четырех стенах». 19 мая он пишет «Меня ты в толпе не узнала». В ночь с 19 на 20 мая завершает «Окончен праздный шумный день». 2 июня — «Скучай».
Быстро, единым духом, со 2 по 22 июня, сочиняет фортепианную сюиту «Картинки с выставки».
Тридцатого июня умирает Надежда Петровна Опочинина, женщина, которую Мусоргский любил.
В июле музыки нет.
Можно только догадываться о душевных событиях, которые переживает в это время композитор. В начале августа он пробует на собственный текст написать «Надгробное письмо» памяти Н. П. Опочининой, но музыка не идет, иссякает. Мусоргский возвращается к циклу «Без солнца». 19 августа он заканчивает «В тумане дремлет ночь». И 25 августа — самый трагический монолог «Над рекой». По настроению — это и есть надгробное письмо:
«Месяц задумчивый, звезды далекие
Синего неба водами любуются.
Молча смотрю я на воды глубокие;
Тайны волшебные сердцем в них чуются.
Плещут, таятся, ласкательно-нежные;
Много в, их ропоте силы чарующей:
Слышатся думы и страсти безбрежные…
Голос неведомый, душу волнующий,
Нежит, пугает, наводит сомнение.
Слушать велит ли он — с места б не сдвинулся;
Гонит ли прочь — убежал бы в смятении.
В глубь ли зовет — без оглядки б я кинулся!»
У Мусоргского будут еще ночи «без солнца», много ночей! Свое письмо Голенищеву-Кутузову от 24 декабря 1875 года он так и пометит: «Ночью, „без солнца“».