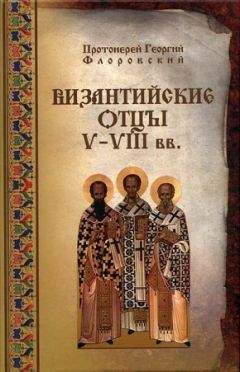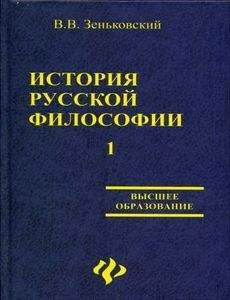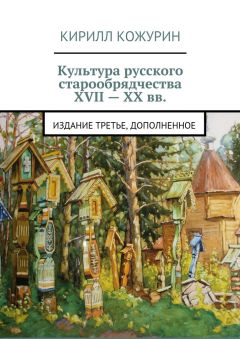Анатолий Ведерников - Религиозные судьбы великих людей русской национальной культуры
Выдающийся русский публицист-историк Михаил Петрович Погодин еще в 1874 году писал: «Все представители русской словесности, все наши замечательные умы, наши передовые люди, мыслящие, образованные, честные, благородные, даровитые – некоторых можно признать даже гениальными, – все отличались религиозностью, и если некоторым случалось отдать дань молодости, подвергнуться искушениям, то в зрелых годах, в лучшие свои минуты, вследствие размышлений, опытов знакомства с жизнью, они обратились на прямой путь тем с большей твердостью и заявили свои искренние и глубокие убеждения».
Слова эти справедливо относятся Погодиным и к Пушкину, который «родился христианином, жил полухристианином и полуязычником, а умер христианином, примиренным с Богом и Церковию». Так говорит о нем архиепископ Никанор Херсонский, и, пожалуй, с христианской точки зрения невозможно более сжато и вместе с тем точно выразить историю личной жизни нашего поэта.
Отмеченный Погодиным факт религиозности русских писателей и поэтов не является для нас безразличным, ибо, приобщая православную веру к созидательным силам нашей культуры, он свидетельствует об огромном религиозно-нравственном значении русской художественной литературы.
Но много ли мы знаем о религиозных воззрениях великих представителей русской словесности? Почти ничего или очень мало, потому что критика и школьное преподавание русской литературы в массе никогда не поднимались у нас до раскрытия внутреннего мира того или иного писателя. Понять это легко, если представить себе исключительную трудность проникновения в тайники человеческих переживаний, особенно религиозных. Сам Пушкин, защищая Байрона от упреков в неверии, говорит: «Душа человека есть недоступное хранилище его помыслов: если сам он таит их, то ни коварный глаз неприязни, ни предупредительный взор дружбы не могут проникнуть в это хранилище. И как судить о свойствах и образе мыслей человека по наружным его действиям? Он может по произволу надевать на себя притворную личину порочности и добродетели. Часто по какому-либо своенравному убеждению ума своего он может выставлять на позор толпе не самую лучшую сторону своего нравственного бытия; часто может бросать пыль в глаза черни одними своими странностями. Скептицизм в душе может быть только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему, вере душевной».
Однако недоступность внутренних переживаний личности, действительно часто скрываемых и оберегаемых от постороннего взора, не может служить достаточным объяснением нашего неведения религиозного мира русских писателей, которые в большинстве считали долгом выражать в слух всего света самые сокровеннейшие движения своей души. Можно сказать, что у самых талантливых из них в силу внутренней потребности литературное творчество служило как бы средством исповеди, облегчавшей им процесс самопознания и религиозного становления.
Поэтому причину неведения религиозного мира наших писателей и того же Пушкина следует усматривать скорее в отсутствии интереса к этому миру, чем в его недоступности. Чтобы видеть религиозный мир в другом, нужно иметь этот мир в себе, а рассуждать о религиозных взглядах и переживаниях Пушкина, не имея личного религиозного опыта, это то же, что слепому судить о достоинствах живописи или глухому – о ценности музыки. По этой причине многие добросовестные историки и ценители литературы обходили вопросы религиозного значения молчанием, а если иногда и касались религиозности того или иного писателя, то разве лишь ради установления чисто объективного биографического факта, объясняемого средой, воспитанием и другими ближайшими причинами.
Но в скудости освещения религиозного характера нашей художественной литературы гораздо более значительную роль сыграла тенденция замалчивания религиозных вопросов как в литературной критике, так и в практике школьного преподавания. Зародившаяся в недрах XVIII столетия и окрепшая в XIX веке, эта тенденция питалась и теперь питается, с одной стороны, религиозным индифферентизмом нашей интеллигенции, а с другой – таким ее отношением к религии, которое лишает последнюю прогрессивного и, следовательно, положительного значения.
Это печальное заблуждение относительно источника, питающего как личную, так и общественную жизнь, выдвинуло на первый план главным образом социальное и эстетическое значение художественной литературы и тем самым значительно ослабило ее религиозно-нравственное воздействие.
А между тем все неприглядные стороны нашей общественной жизни, запечатленные в таких типических образах, как Онегин, Печорин, Чичиков, Хлестаков, Обломов и другие, могут быть объяснены в полной мере только болезнями нравственной природы, возникающими из недолжного отношения человека к Богу и к ближнему.
Но мы знаем, что критика и школьная наука объясняют происхождение отрицательных литературных персонажей не нравственной поврежденностью нашего общества, не извращением его религиозных понятий, а несовершенством общественного устройства, влиянием среды, давлением социальной необходимости, словом, внешней принудительностью. Не ясно ли, что подобные мотивы, рассматривая личность как невольницу общественных отношений, совершенно лишают ее духовной свободы, а вместе с нею и человеческого достоинства.
Не так смотрит и не то видит в жизни и в художественной литературе религиозное сознание. Оно рассматривает жизнь как борьбу добра и зла, а душу человека – как поле решающей битвы между ними. Самоопределение личности, выражающееся в свободном выборе одного из этих двух начал, решает исход этой битвы, а сумма личных самоопределений создает уже известную направленность общественной жизни. Для примера укажем на пути нашей неверующей интеллигенции, ведущей свою историю и свое неверие от Петра I.
Принципиально новое отношение к религии и Церкви возникает, конечно, в душе Петра I под влиянием воспитания, дух которого был направлен против церковной и народной старины. Затем идут многолетние путешествия по Западной Европе, возбуждающие в Петре I горячие увлечения западной цивилизацией. А эта цивилизация, несмотря на внешнюю религиозность, вся пропитана духом протестующего разума, оторванного от нравственного совершенствования. Ясно, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф 6, 21): увлечение Петра I сокровищами Запада не могло не породить в нем некоторого, весьма, впрочем, заметного, охлаждения к родной вере. Как политик, он, конечно, не мог встать на опасные пути отрицания веры, да этот вопрос и не мог быть предметом его сознательных размышлений: искушение действовало еще подспудно и в рамках официальной религиозности (вернее, привычной, традиционной религиозности). Но некоторая степень равнодушия к вере стала главной особенностью его духовного облика.