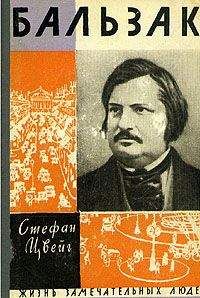Поэты, писатели, безумцы. Литературные биографии - Цвейг Стефан
Итак, естественным образом, невольно приходит Клейст к трагедии: только она могла отобразить болезненную противоречивость его натуры (в то время как эпос допускает более спокойные, более мягкие формы, драма требует крайней обостренности, и потому лишь она отвечала требованиям его склонного к преувеличениями экстравагантности характера). Его страсти с жгучей непреодолимостью влекут его к буйным излияниям, насильно толкают его к драме; они, а не он, создают эти произведения, поэтому мне кажется грубой ошибкой искать у Клейста признаки метода, планомерного построения, сознательного труда. Гёте несколько иронически говорил о «незримом театре», для которого были предназначены эти пьесы; этим незримым театром была для Клейста демоническая природа мира, которая из мощной раздвоенности, из диаметральности противоречий создает такое напряжение, такое движение, которое действительно способно взорвать и затопить подмостки. Никто не был и не желал быть менее практиком, чем Клейст; он жаждал освобождения и разгрузки; всякая игра, так же как и целенаправленность, противоречит беспокойной страстности его характера. Его концепции неуклюжи и негибки, его сцепления непрочны, вся техническая сторона сделана al fresco (поспешной и нетерпеливой рукой): там, где его кисть не гениальна, он ударяется в театральность, опускаясь до мелодрамы; местами он впадает в вульгарность уличной комедии, рыцарских представлений, волшебного театра, чтобы одним прыжком, одним взлетом (подобно Шекспиру) снова перенестись в возвышенную сферу духа. Сюжет для него только предлог и материал; накалять страстью – его подлинная страсть. Нередко он создает нарастание при помощи самых низменных, самых грубых, самых ходячих приемов («Кетхен из Гейльбронна», «Семейство Шроффенштейн»), но, воспламенившись страстью и со стремительностью парового двигателя ворвавшись в родную стихию противоречий, он создает напряжения, не имеющие себе равных.
Техника Клейста кажется наивной, его композиции ошибочными и банальными; медленно, нередко окольными, извилистыми путями он проникает в самую сердцевину конфликта, чтобы внезапно взорвать чувство с ему одному свойственной мощью и смелостью. Поэтому он должен опускаться на самое дно, поэтому нужна ему, как Достоевскому, длительная подготовка, самые причудливые сплетения, извивы и лабиринты. В начальных сценах его драм («Разбитый кувшин», «Гискар», «Пентесилея») факты и положения сплетаются в тесный узел; сначала как бы собираются тучи, которые могут вызвать трагическую грозу, и он любит эту насыщенную, тяжелую, непроницаемую атмосферу, потому что своей смятенностью, безнадежностью, безысходностью она напоминает атмосферу его души, смятенная ситуация соответствует тому «смятению чувств», которое так беспокоило чуждого демонизму Гёте. И конечно, в основе этого насильственного утаивания, этой загадочности кроется доля извращенного упоения страданием; в напряжении и торможении он вкушает сладострастие, возбуждая и воспламеняя свое и чужое нетерпение. Так драмы Клейста, прежде чем зажечь чувство, заставляют трепетать нервы; подобно музыке «Тристана» [93], они расточительной монотонностью, многозначительными намеками и волнующими недомолвками стремятся вызвать вихрь чувств. Только в «Гискаре» одним движением, словно отдергивая завесу, с солнечной ясностью он обнажает всю ситуацию; остальные драмы («Принц Гомбургский», «Пентесилея», «Битва Арминия») начинаются с сумбура положений и характеров, из которого вытекают и, разрастаясь, подобно лавине, с грохотом сталкиваются страсти героев. Все перегнав, они иногда ломают своей чрезмерностью намеченную вначале общую концепцию; если не считать «Принца Гомбургского», постоянно чувствуешь, что персонажи Клейста как будто вырвались из-под его лихорадочной руки и помчались в беспредельность, плененные могуществом чувств, нежданным и непредвиденным в трезвом замысле. Клейст не владеет, как Шекспир, своими образами и проблемами: они уносят его за крайнюю черту. Каждый из них – ученик чародея из Гётевой баллады, и они следуют демоническому зову, а не ясной, планомерной воле; в высшем смысле Клейст не ответствен за них, как за слова, произнесенные во сне и непроизвольно выдающие затаенные стремления.
Эта вынужденность, связанность, подчиненность воли господствует и в языке его драм: он подобен дыханию взволнованного человека. Язык то искрится, рассыпаясь и растекаясь, то угасает в хрипах, выкриках и молчании. Постоянно тяготеет он к крайностям: порою величественно образный в своем лаконизме, словно вылитый из бронзы в своей застывшей сдержанности, он быстро расплавляется в пламени чувств. Часто в нем попадаются отдельные сгустки, насыщенные кровью, как напряженные мускулы, но часто фразу, словно бомба, разрывает пробившееся чувство. Пока язык обуздан, он дышит мужеством и силой, но, как только чувство обращается в страсть, он словно ускользает из-под власти Клейста, растворяя в образах все его грезы. Клейсту никогда не удается вполне овладеть своей речью; он безжалостно искривляет, изгибает, разрывает, изламывает фразы, чтобы сделать их устойчивыми, он (вечный преувеличитель) часто растягивает их настолько, что не связать концов; но над одним простирается все же его власть и терпение: никогда не сливаются у него стихи в одну общую мелодию, все брызжет, искрится и кипит страстями. Как его героев, бессильных сдержать свою чрезмерность, начинает лихорадить, так и его в конце концов охватывает бессилие обуздать слова: когда Клейст дает себе волю (а в творчестве он обнажает самые глубинные слои своего существа), он одержим и неудержим в своей чрезмерности. Поэтому ему не удается ни одно стихотворение (кроме магической литании смерти); плотины и водопады создают не плавное, ровное течение, а только пороги и бурные водовороты; его стих и дыхание равно неспокойны и немелодичны. Только смерть вдохновляет его на музыку, на последнее излияние.
Гонитель и гонимый, охотник и затравленный зверь – таким является нам Клейст среди своих образов, и то, что делает его драмы особенно драматичными, заключается не в концепции, не в замысле, не в эпизодическом событии, а в необычайном, окутанном тучами горизонте, величественно расширяющем и возвышающем их до героизма. Клейсту присуще врожденно трагическое восприятие мира: в своих трагедиях он ощущает и оформляет не материю отдельного сюжета, а мировую материю. Возложенное на него бремя рока он в неистовом преувеличении передает другим, и трещина, зияющая в груди каждого его героя, является для него частью громадной расселины, которая рассекает вселенную, превращая ее в сплошную неисцелимую рану, в вечное страдание. Ницше глубоко проник в истину, заметив о Клейсте: он часто говорит «о хрупкости мира», ибо его привлекает «неисцелимость природы», – мир для него поистине неисцелим, несоединим, весь он печальная неразрешенность и неразрешимость.
Клейст достигает поэтому подлинно трагической ситуации: лишь тот, кто непрестанно ощущает мир как улику – не только как сюжет, но и как обвинение, – может выступить в драме – роль за ролью, речь за речью – обвинителем, судьей, должником и кредитором, давая каждому возможность защищать свои права от чудовищной несправедливости природы, создавшей человека раздробленным, двойственным, вечно неудовлетворенным. Такой взгляд на мир невозможен при ясном взоре. Гёте иронически написал в альбом другому пессимисту, Артуру Шопенгауэру:
Никогда трагический дух Клейста не мог, подобно гению Гёте, «уверовать в ценность мира», и ему не было суждено «найти ценность в себе». Об его собственную неудовлетворенность космосом разбиваются все его творения: трагические дети истинного трагика, они вечно хотят превзойти себя и головой пробить непоколебимую стену судьбы. Чуждая непримиримости мудрость Гёте, удовлетворенно принимавшая жизнь, невольно сообщалась его образам, его проблемам, и потому они не достигали античного величия, даже облачаясь в тунику и становясь на котурны. Даже трагически задуманные образы – Фауст и Тассо – находят утешение и успокоение, «спасение» от последних глубин своего «я», от священной гибели. Он знал, великий мудрец, роковую силу истинной трагедии («это погубило бы меня», – признается он, говоря о замысле настоящей трагедии); своим орлиным взором он видел всю глубину скрытой в нем самом опасности, но у него было достаточно мудрой осторожности, чтобы не поддаться ей. Клейст же, напротив, был героичен без мудрости, он был мужествен и одержим волей к постижению последних глубин; сладострастно он гнал свои грезы и образы навстречу последним возможностям, зная, что они повлекут его за собой к святому року. Мир представлялся ему трагедией, и он творил трагедии из своего мира – лучшей и самой возвышенной из них была его жизнь.