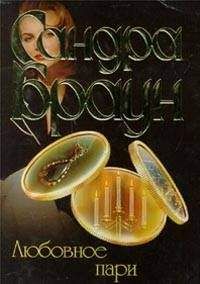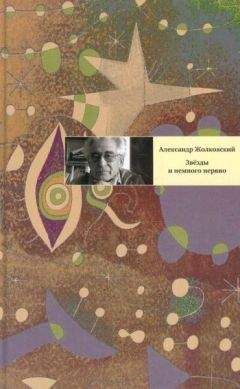Александр Жолковский - Звезды и немного нервно
Это выглядело умилительно, и я посмеялся, не помышляя, что, вообще говоря, и сам не гарантирован от подобной экзекуции. Пока что черный день не наступил, но какие-то признаки перевода в разряд трефного я ощущаю. А с публикацией этой виньетки фарс вполне может обернуться трагедией.
Кстати, в моем опыте Якобсон, действительно, не был чужд профессионального кашрута. Я уже писал, как он однажды заочно отлучил меня (к счастью, на время) за упоминание о нем в одном абзаце со Шкловским. Хотя, какой там кошер — от Шкловского отгораживаться, а с Виноградовым и Филиным возжаться? Жизнь полна противоречий.
Еще круче всегда держал себя В. В. Иванов, тоже наследник Якобсона. Он даже, кажется, давал пощечины — то ли Евтушенко, то ли Палиевскому, то ли кому-то еще.
Но это уже не кашрут. К трефному нельзя прикасаться. Тут что-то арийское, дворянское, рыцарское.
Уважительные причины
В кулуарах иерусалимской конференции 1998 года, за ужином, как-то зашла речь об истории издания «Рассказов о Анне Ахматовой» (М.: Худож. лит., 1989) присутствовавшего тут же Анатолия Наймана. В частности, о том, как главный редактор издательства, небезызвестный Г. Анджапаридзе, возражал против включения в книгу ахматовского приговора Роберту Рождественскому:
«Как может называть себя поэтом человек…, не слышащий, что русская поповская фамилия несовместима с заморским опереточным именем?… На то ты и поэт, чтобы придумать достойный псевдоним».
Вспоминая об этом, Найман отметил, что коронный довод Анджапаридзе был вовсе не политический, а человеческий — нехорошо огорчать Рождественского. За столом эту аргументацию поддержала одна моя давняя знакомая (и героиня виньеток), вспомнившая, что Рождественский тогда тяжело болел. В ответ подала голос Катя: ну и что ж, что болел, — Ахматова к тому времени вообще уже двадцать лет, как умерла, а все рта раскрыть не дадут. (Найман пробил-таки негуманное mot Ахматовой, но не без потерь — по-эзоповски переименовав поэта в Альберта Богоявленского; а la lettre Рождественский был прописан в этой связи в неподцензурных «Записках» Чуковской.)
Апелляция к справке от врача чем-то напомнила формулировку, услышанную от Анджапаридзе мной самим в 1988 году, когда он, только что возглавивший издательство «Художественная литература», приехал в составе делегации советских писателей (помню В. Розова, Т. Толстую, М. Жванецкого) в Штаты и выступал в Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса. На вопрос из зала, собирается ли он издавать Солженицына, он ответил, в изящно англизированном ключе, что Солженицын is not his cup of tea, не его чашка чая.
Еще один пример подобной риторики был продемонстрирован и на одном из заседаний иерусалимской конференции. Открывая его, председательствующий (Д. М. Сегал) напомнил о необходимости соблюдать регламент, доклад столько-то минут, вопрос с места столько-то, выступление в прениях столько-то, после чего предоставил слово М. Л. Гаспарову. Пока тот поднимался на сцену, вперед выскочила моя давняя знакомая — с заявлением, что регламент дело хорошее, но иногда уместно сделать исключение, например, для такого докладчика, как Михаил Леонович. Гаспаров, однако, уложился в отведенное время с оскорбительной точностью.
Что же общего между этими тремя случаями, в чем инвариант? Прежде всего, бросается в глаза упор на малое, личное, особенное — в противовес некому категорическому общему императиву. Ахматова, может быть, и права, но надо пожалеть больного; Солженицын, может быть, и великий пророк, но имеет же издатель право на свои эксцентрические вкусы; регламент регламентом, но позаботимся о Михаиле Леоновиче, который заикается. Под защиту берется как бы нечто уязвимое, слабое (недаром в двух случаях речь идет о болезнях) и притом частное, а угрожает ему сильное, общественное, неумолимо-безличное. Но именно в этом благородном — как на сердобольный российский, так и на правовой западный вкус — посыле кроется главный демагогический ход. На самом деле, отстаивается не слабое, а сильное — советское цензурирование Ахматовой и Солженицына и всеми почитаемый академик, перебить которого не придет в голову самому бездушному хронометристу. Конкретные подзащитные могут меняться, но в силе остается финт якобы гуманитарного протеста, а по сути — конформистского присоединения к властному статус-кво, с закономерно сопутствующим ему провозглашением морального релятивизма.
… В одной из ранних оттепельных статей в «Правде» проскользнула навсегда запомнившаяся фраза о Сталине — великом революционере, не лишенном, к сожалению, отдельных недостатков: «Личная трагедия Сталина состояла в его чрезмерной подозрительности…»
После всего
Уже древние римляне знали, что post coitum omne animale triste est, nisi gallus, quis cantat («После соития все животные грустят, кроме петуха, который поет»).
Одна поэтесса преподнесла мне книгу своих вполне профессиональных стихов под названием «Флорентин, или Послесловие к оргазму» (1996).
Я рассказал об этом Леше Лосеву, когда он стал дарить мне свою — «Послесловие» (1998). Тогда он надписал ее так:
Дорогой Алик,
сфокусируйте хрусталик
и убедитесь, как безобразно
послесловие без оргазма.
Махаловка с НРЗБ
Я был уже немного знаком с Сергеем Гандлевским, когда под впечатлением «Устроиться на автобазу…» занялся его стихами — с точки зрения «инфинитивной поэзии». Из Санта-Моники я по электронной почте показал ему черновик статьи, получил ценные разъяснения и пригласил его на свой доклад в Москве (июнь 2000 года). Поэт явился и, с непроницаемым видом играя самого себя, досидел до конца.
Он оказался моим соседом по двору и предложил заходить, что я и стал делать, наслаждаясь обществом его семьи, мастерским кофе по-турецки и нелицеприятным table talk’ом высшей пробы. Сережа подарил мне несколько своих книжек, а я ему своих, в том числе сборник рассказов «НРЗБ» (1991) и «Мемуарные виньетки» (2000).
Разговоры за кофе и на прогулках с его боксером Чарли были о разном — о культурном и политическом быте, литературе, наших собственных и чужих новинках. Мне близок Сережин неоклассицизм: концепта недостаточно, главное, как он говорит, предъявить «изделие». Но о моем последнем изделии — «Виньетках» — речь все не заходила, сам же я ее не заводил, подозревая худшее и предпочитая суровое мужское обоюдное молчание.
Приехав летом 2001 года, я вручил Сереже свою новую статью (об обезьянах у Ходасевича и Зощенко) и за очередным кофе ожидал услышать отзыв. Перед тем как идти к нему, я в телефонном разговоре с одной знакомой неожиданно нарушил внутреннее табу и обрисовал сюжет с суровым молчанием мужчин: вот, мол, буду у Гандлевского, а про «Виньетки» — ни-ни. Но прислушавшись к себе, я ощутил, что где-то там, в душевной глубине, вербализованный и как бы осознавший себя сюжет, преодолев первый барьер, готовится ко второму прыжку.