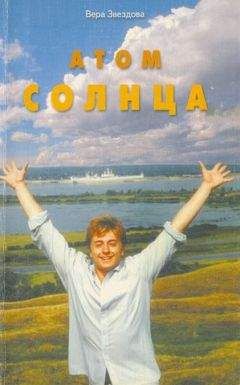Лидия Лебединская - С того берега
В этом письме Серно-Соловьевич выразил тогда очень точно и прямо жесткие обязательства, лежавшие на них обоих — на Огареве и Герцене — в связи с тем, что тысячи глаз устремлены на них зорко и неотрывно.
Та нравственная высота, на которой стояли добровольные лондонские изгнанники, так несовместима была в представлении боготворившего их Серно-Соловьевича с любой, самой мелкой человеческой слабостью, даже с обыкновенной размолвкой! Он описывал, как во время первого их дневного разговора на террасе вздрагивала Тучкова то ли от холода, то ли от сдерживаемых рыданий, вечером же непроизвольные слезы пробивались у нее. Нет, она не жаловалась, она говорила, что во многом виновата сама, что размолвка временна, что все в порядке, отвечала уклончиво, обиняками, туманно. Все это Серно-Соловьевич, естественно, соотносил с Огаревым. И, к нему обращаясь, писал:
«Вдумайтесь ради всего в жизнь, на которую осуждена теперь эта женщина, и дайте себе отчет, спрося только собственное сердце, что она должна выстрадать в течение каждых суток. Дайте себе ясный отчет, умоляю вас, что за невыносимая жизнь женщине, одной, в чужой стороне, среди чужих! Нескончаемые, холодные, сырые дни тянутся беспрерывной вереницей, принося один, как и другой, одиночество, тоску, грусть, горе, физические лишения, душевные терзания, оскорбленное и, быть может, оскорбляемое самолюбие… Будучи в Лондоне, я часто подмечал у вас обоих тоску по России… Подумайте же, если вы, мужчины, погруженные в дело, имеющие призвание, знающие, что каждый час вашей работы приносит громадную пользу, чувствуете, как зачастую щемит сердце — что же должна ощущать женщина, оторванная от родины, дважды от семьи, одна, без призвания, без всякого дела? Страшно подумать, если бы самому пришлось быть в таком положении!.. Я решительно не могу придумать преступления, за которое можно было бы, при наших убеждениях, осудить женщину на такие страдания».
Только благородством и любовью продиктовано было ото письмо, дышавшее чистотой и заботой.
«Пойдут бесконечные отвратительные сплетни, действие которых будет тем сильнее, что они будут опираться на факт. Черня лично вас, будут клеветать и марать нашу общую святыню, наши убеждения и начала. И нам только нечего будет отвечать, потому что при каждом слове будет приправа: «Огарев бросил жену и ребенка», «жена Огарева не была в состоянии выносить жизнь с ним» и тому подобное. Что ни возражай, как ни объясняй дело — за них будет факт вашей разлуки».
Он писал, одно и то же повторяя, — умоляя, заклиная, уговаривая, — многословный от отчаяния и желания быть услышанным, чего бы это ни стоило ему, так недавно еще знакомому, настолько младшему, вряд ли имеющему право голоса перед такими людьми. Но — писал.
«В семейных делах судей быть не может, но наверно всегда есть доля вины на обеих сторонах; можем же ли мы равнодушно видеть, что всю тяжесть неприятностей несет одна, слабейшая? Как бы вина ни была велика… — такой образ действий был бы непростителен даже людям деспотизма. Поверьте мне, дорогой друг, если б даже право было безусловно на вашей стороне, в глазах ваших друзей вы не можете быть правы нравственно. Я сужу по себе. Конечно, сильнее любить вас, быть с вами более заодно как я — невозможно. И до чего меня коробит, как подумаю о Наталье Алексеевне, я и сказать не умею. Что же скажут другие, более или менее равнодушные? Умоляю вас, во имя всего, что вам дорого…»
Другие, более или менее равнодушные… Разумеется, от многих не было тайной, что не так уж хорошо все в этом доме на жилом, а не на приемном этаже. Это ведь никогда не укроешь. И естественно, — к кому же иначе? — относили это все к Огареву. Очевидно, к скрываемым чертам характера, может быть — к тому, что он пил. Да мало ли, что можно придумать, если хочется заметить и объяснить.
Снова громко и горько засмеялся над самим собой человек, стоявший у ограды канала. Мало, что он потерял эту женщину, последнюю женщину, которую так любил, — он еще должен теперь нести полную ответственность за тот внешний рисунок жизни, что сложился у нее с другим. Что же, значит, будет еще и это. Впрочем, ведь и они мучаются вместе с ним. Однажды он видел письмо Натали, Герцен показал одну фразу, отогнув листок сверху и снизу. Она писала: «Боже мой, когда же я перестану даже невольно быть казнью для него?» Никогда, Наташа, никогда. Мы все трое прекрасно это знаем. И ничего тебе не сделать с собой. С твоим характером, от которого ты сама плачешь после каждой вспышки, с твоим одиночеством, хоть есть у тебя семья. Ничего. Значит, этот крест нести и нам. Многих уже вовсе нет.
Огарев смотрел на медленно плывущие по каналу разрозненные листья и думал, как банальна эта картина: стоит поэт, смотрит на плывущие осенние листья и размышляет об ушедших людях. С листьями хоть все ясно, а куда вот они девались — ушедшие?
С год назад появился в типографии молодой человек, назвавший себя Дубровиным и не скрывавший, что имя выдуманное. Говорил, что поручик, окончил училище юнкеров, направлен был в полк, но из отпуска исчез — как растаял. В Лондон пробрался через Финляндию. Отчего сбежал, толком объяснить не мог. На расспросы отмалчивался или говорил невнятицу. Проработал год наборщиком и исчез так же неожиданно, как появился. Нет, не убежал, отнюдь — объяснил, что без России жить не может. И пропал — куда, неизвестно. Разыскать его так и не удалось, как ни расспрашивали приезжих. Ну да велика она, Россия. Более пятидесяти лет спустя подняли в старых архивах дела, и оказалось, что поручик Бейдеман — таково было подлинное имя Дубровина — без суда и следствия заточен был в Алексеевский равелин, ибо, схваченный, обозначил себя на следствии как цареубийца. Дескать, для того собирался убить царя, чтобы народ, видя в нем, убийце, помещика, мстящего за освобождение крестьян, поднялся бы на уничтожение дворян. В них Бейдеман видел главную пагубу для России. Невообразимые зигзаги совершала русская освободительная мысль. В крепости за двадцать лет сошел с ума и кончил свои дни в Казанской больнице Всех Скорбящих.
Огарев понимал, что толкнуло его на побег в Россию. А они разве могли без России? Как-то раз, когда только близкие остались, Герцен аккуратно закрыл дверь в свой кабинет, обернулся и сказал весело:
— А сейчас, господа, давайте сделаем вот что: сядем и споем все вместе. Все равно было, что петь, лишь бы песня была русская, памятная с дальнего детства. И тогда опять вспомнил Огарев про поручика, не вынесшего разлуки, и всем сердцем позавидовал ему.
Было, кстати, в этом странном, быстро забытом наборщике еще одно: тщеславие, что ли, или честолюбие, но болезненное, язвительное. Проявлялось это в мнительном внимании к тому, часто ли приглашают его в дом просто погостевать. А Герцен придумал форму поощрения и осуждения: переставал звать в гости, если был кем-либо недоволен. Дубровин очень злился на это. Ну да бог с ним, где-то он сейчас, интересно. И вот еще что интересно: тщеславен ли Николай Платонович Огарев? Честолюбив ли? Вроде бы по всему получалось: нег. Огарев засмеялся по-мальчишески жизнерадостно, закурил и решил присмотреться пристальней к этому поэту, настолько странному, что не тщеславен и не честолюбив. Ибо качества эти не просто для поэта естественны, они необходимы ему, они — часть того целого, что побуждает работать. Неужели он и вправду их лишен? Может, оттого и ленив? Ну, в поэзии ладно, тут вообще все неясно. Он-то знал, как это бывает: не можешь вдруг не писать, словно кто-то тобой пишет, как живое перо тебя используя. А вообще? Но не было у него никогда желания стать предметом восхищенных взглядов, слов, междометий. В Петербурге только, пожалуй, когда таскали из дома в дом почитать стихи, ахали, брали переписать, исполняли, ожидая авторского мнения. Ну приятно было, не более. Как будто сладкая теплота где-то глубоко внутри разливалась, и хотелось продлить ощущение во что бы то ни стало. Правда, тоже потом ушло, но было. И еще. Позже. Когда стали приезжать из Петербурга люди и советов спрашивать, как объединяться. С помощью воскресных школ, читален, клубов всяких, как угодно, но сплотиться, соединиться. Действовать и легально и подземно, чтобы тайный центр был, организация и знать во имя чего. Приняли в основу его прокламацию «Что нужно народу?». Более того, название своей организации, центру своему дали по его же словам, по заголовку: «Земля и Воля».