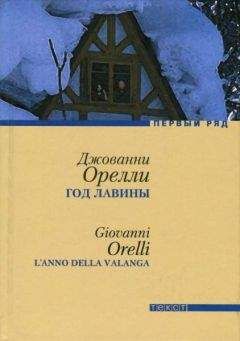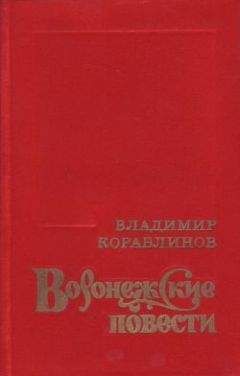Сергей Сазонов - Воспоминания
Между тем, чтобы исполнить волю Государя и остаться верным данному себе и нашим союзникам слову до крайней возможности не обрывать переговоров с противниками, я согласился на видоизменение сэром Эд. Греем сделанного мной по просьбе Пурталеса и тотчас же отвергнутого Яго предложения простановки русских вооружений в случае отказа Австро-Венгрии от требований, несовместимых с положением Сербии как независимой державы. Новая редакция, предложенная Греем, значительно видоизменяла мою формулу, так как она допускала временное занятие австрийцами некоторых частей сербской территории и этим приближалась к мысли императора Вильгельма об «австрийских залогах» в Сербии. Грей требовал от Австрии только приостановки дальнейшего продвижения своих войск и полагался на решение держав в вопросе об удовлетворении австрийских требований при одном лишь условии сохранения суверенных прав сербского правительства и территориальной неприкосновенности страны.
Как ни была мне антипатична эта новая формула, я тем не менее испросил у Государя разрешение принять её во имя интересов европейского мира, отдавая себе ясный отчёт, что будучи по существу несправедливой, она не могла ни привести к правильному разрешению австро-сербского столкновения, ни установить удовлетворительных и прочных отношений между спорящими сторонами. Государь, несмотря на своё глубокое миролюбие, был неприятно поражен новым предложением Грея, и мне стоило не меньшего усилия убедить его дать на него своё согласие, чем мне самому просить его о нем.
Таким образом, нам приходилось поставить крайним пределом нашей уступчивости вопрос о неприкосновенности сербской территории и государственной независимости. За этим пределом перед нами восставал, во всём своём ужасе, кровавый призрак европейской войны, отогнать который, несмотря на все жертвы, принесенные для этого сербским народом и Россией, нам не удалось. Нет ничего тягостнее, как становиться на путь отречения и жертв, предвидя их бесполезность.
Предложение мое, четвертое по счету с появления австрийского ультиматума, со внесенными в него сэром Эд. Греем изменениями, было сделано 31 июля, т. е. в день объявления Германией «состояния опасности войны» и нашей общей мобилизации. Между ними, как я уже сказал, не было существенной разницы, кроме той, что объявление опасности войны давало возможность мобилизации без объявления о ней. Но между самим понятием мобилизации у нас и в Германии была огромная разница. В России на мобилизацию смотрели не только как на средство нападения, но также как на средство самосохранения, и в 1914 году нашей мобилизации был придан именно этот характер, как об этом Государь лично предупредил императора Вильгельма в одной из своих телеграмм к нему, подтвердив это утверждение своим словом и обещая ничего не предпринимать против своих соседей, пока переговоры с Австрией не будут окончательно прерваны. В Германии же мобилизация вела непосредственно к войне, как мне объявил о том германский посол. Как видно из телеграммы Бетмана-Гольвега к Чиршкому от 30 июля, генеральный штаб настаивал на «быстрых решениях», т. е. на немедленной мобилизации, иными словами – на войне.
Желание германской военной партии было исполнено, хотя и не без некоторого сопротивления со стороны государственного канцлера [16] и г-на фон Яго, старавшихся отложить на некоторое время объявление войны, сознавая, по объяснению г-на Каутского, что Германия начинала войну при неблагоприятных для себя международных условиях [XLV].
31 июля в полночь германский посол вручил мне ультиматум, в котором Германия требовала от нас в 12-часовой срок демобилизации призванных против Австрии и Германии запасных чинов. Это требование, технически невыполнимое, к тому же носило характер акта грубого насилия, так как взамен роспуска наших войск нам не обещали однородной меры со стороны наших противников. Австрия в ту пору уже завершила свою мобилизацию, а Германия приступила к ней в этот самый день объявлением у себя «положения опасности войны», а если верить главе временного баварского правительства Курту Эйснеру, вскоре затем убитому, то и тремя днями раньше. Как будто этого всего было недостаточно, германский ультиматум предъявлял нам ещё требования каких-то объяснений по поводу принятых нами военных мер.
Ни по существу, ни по форме эти требования не были, само собою разумеется, допустимы. Военные приготовления наших западных соседей представляли для нас величайшую опасность, от которой нас могло оградить только немедленное прекращение ими всяких мобилизационных мер. Не приходится говорить о том, что демобилизация в эту минуту внесла бы полное и непоправимое расстройство во всю нашу военную организацию, которой наши противники, оставаясь мобилизованными, не замедлили бы воспользоваться, чтобы осуществить беспрепятственно свои замыслы.
Передавая мне ультиматум своего правительства, германский посол обнаружил большую возбужденность и настойчиво повторял своё требование демобилизации. Мне удалось сохранить моё спокойствие, и я мог разъяснить ему без раздражения причины, по которым русское правительство не могло пойти навстречу желаниям Германии. Я уже несколько ранее был подготовлен к этому шагу берлинского кабинета и отчётливо сознавал, что дело мира, на которое мы положили бесконечные усилия, было бесповоротно проиграно и что за этим шагом через несколько часов последует другой – последний и окончательный, результатом которого будут для всей Европы бедствия, о размерах которых самое живое воображение не могло дать и бледного представления.
Пока протекал данный нам для капитуляции перед центральными державами срок, австро-венгерское правительство неожиданно выразило своё согласие на возобновление прерванных с нами переговоров, которые оно так решительно отвергало, пока от них можно было ожидать какой-нибудь пользы. Имело ли на решение Берхтольда какое-либо влияние давление из Берлина, как это утверждало германское правительство, обнародовавшее с запозданием целого года [17], телеграммы Бетмана-Гольвега к Чиршкому, в которых он советовал венскому кабинету возобновить с нами разговоры, или же это решение было принято Берхтольдом самопочинно ввиду неготовности австрийской армии к активным действиям не только против России, но и против Сербии, или же, наконец, – просто для отвода глаз, так как в Вене уже имели уверенность в предстоявшем объявлении нам Германией войны и поэтому могли безнаказанно обнаружить некоторую примирительность, – в настоящее время не представляет большого интереса. Гром орудий помешал возобновлению этих переговоров, которым я придавал практическое значение только в первую стадию австро-сербского столкновения. Объявление войны Сербии и бомбардирование Белграда лишали их этого значения, и я, не отказываясь от них по вышеприведенным соображениям, утратил к ним всякий интерес. Помочь они ничему не могли, а отсрочивать было более нечего. Этот шаг, последний и бесповоротный, был совершен Германией в субботу 1 августа. В 7 часов вечера ко мне явился граф Пурталес и с первых же слов спросил меня, готово ли русское правительство дать благоприятный ответ на предъявленный им накануне ультиматум. Я ответил отрицательно и заметил, что хотя общая мобилизация не могла быть отменена, Россия тем не менее была по-прежнему расположена продолжать переговоры для разрешения спора мирным путем.