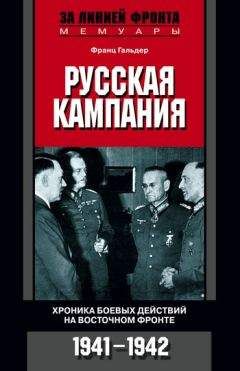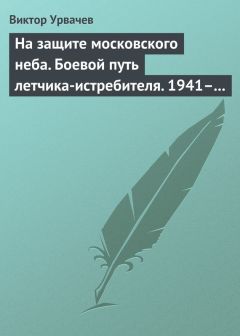Александр Махов - Тициан
Движимые разумом и душою, утверждаем нашей собственной рукой и провозглашаем тебя, Тициан, графом Палатинским, священного Латеранского дворца, нашего императорского двора и Консистории. Отныне и впредь ты будешь пользоваться всеми правами, привилегиями и льготами, личной неприкосновенностью и почестями… В знак нашего особого благоволения к тебе и твоим потомкам производим их также в дворянское звание нашего королевства и Священной Римской империи… В доказательство нашей милости даруем тебе, Тициан Вечеллио, титулы рыцаря Золотой шпоры, кавалера империи и утверждаем в правах на все полагающиеся почести, гарантии, льготы и привилегии. Никто не вправе преступить сию грамоту, отменив в ней указанные звания, почести и привилегии…»
Затем посол приказал Тициану стать на колени и надел ему на шею тяжелую цепь рыцаря Золотой шпоры. Оригинал грамоты с подписью Карла, скрепленный имперскими печатями, хранится как реликвия в мемориальном музее Тициана в Пьеве ди Кадоре.
Теперь внук Конте Вечеллио действительно сиятельный граф, а вот его деду так и не удалось стать дворянином и оправдать полученное им при крещении столь необычное имя, несмотря на свои военные заслуги. А как бы обрадовалась за него Чечилия!
Слух о возведении Тициана в дворянство взбудоражил всю Венецию, хотя многие горожане, видя его величавую фигуру, давно считали художника истинным аристократом, а о доме на Бири и его богатом убранстве ходили легенды. Посол Лопе де Сориа был принят дожем, которому было сообщено о желании императора Карла видеть сиятельного графа Тициана своим гостем в Испании. Прием посла происходил в зале Коллегии на фоне большого тициановского полотна, на котором святой Марк представляет дожа Гритти Богоматери. Выслушав посла, дож поблагодарил за внимание, проявленное к официальному художнику Венецианской республики, и заявил, что, к сожалению, Тициан в настоящее время лишен возможности покинуть пределы Венеции, поскольку перед ним стоит ответственное государственное задание — завершить работу над большим батальным полотном для Дворца дожей, которое должно прославить славную победу Венецианской республики над врагом.
Когда Тициану передали слова дожа, звучащие как приказ, он воспринял их с удовлетворением. Ему самому никак не хотелось оставлять дом, детей и работу, чтобы ехать в незнакомую страну, где вряд ли он сможет ужиться среди чопорных испанских грандов. Но напоминание о невыполненном долге в присутствии иностранца его покоробило. Не подействовали никакие уговоры Аретино пойти к дожу и добиться разрешения на выезд. Однако его предприимчивый друг все же настоял на том, чтобы Тициан обзавелся фамильным гербом, как того требует его высокое положение. После некоторых раздумий Тициан выбрал для себя в качестве девиза слова: Natura potentior ars — «Природа подвластна искусству», а под девизом решил дать изображение медведицы, вылизывающей новорожденного. Тогда считалось, что медвежата рождаются бесформенными, и мать языком придает им естественный вид, подобно живописцу, исправляющему недочеты матери-природы и придающему ее творениям нужную форму.
Почетного звания «новый Апеллес» домогались многие мастера эпохи Возрождения. Апеллес прославился блистательными изображениями красавиц-богинь и портретами, особенно своего друга и покровителя Александра Великого. И Тициану, как никому другому, подходило это звание. Когда-то бросив вызов античным живописцам в желании превзойти их своим искусством, он в мифологических «поэзиях» воссоздал древние памятники и вдохнул жизнь в героев Филострата, Катулла, Овидия. Прославившись как непревзойденный портретист, Тициан вызвал восхищение императора Карла V, с которым у него установились вполне дружеские доверительные отношения, как в свое время У Апеллеса с Александром Македонским.
Примерно в это время поэт Франческо Берни, нашедший приют в Венеции, пишет посвящение другому великому современнику Тициана, получившее широкую известность:
Я говорю вам: вот он, чародей, —
Наш Микеланджело Буонарроти.
Моим речам не свойственен елей,
Их правоту вы вскоре все поймете.
О, похвала такому не вредна —
Он равнодушен к ней в своем полете.
В его идеях смелость, новизна,
Берется ль он за фреску иль скульптуру —
Астрея приняла бы их сполна.
Задумав в камне изваять фигуру,
Ей придает неповторимый вид —
Нам не постигнуть гения натуру.
И никогда себя он не щадит,
Чтоб передать всю красоту движенья.
Какая сила страсти в нем кипит!
Не мне судить великие творенья,
Но мир не видывал таких чудес:
В них самого Платона озаренье.
Вот новый Аполлон и Апеллес![73]
Новыми Апеллесами эпохи Высокого Возрождения можно по праву считать Микеланджело и Тициана. Никто в мире не пользовался такой громкой известностью и не получал столь высокие гонорары, как они. Один безраздельно властвовал в скульптуре, а другой — в живописи. Заказчиками Микеланджело были папы римские, а Тициан работал на испанских королей. И каждый старался доказать превосходство своего искусства.
В середине XVI века в художественной среде велась оживленная дискуссия по поводу верховенства одного из этих искусств. В пользу живописи или скульптуры приводились высказывания Леонардо да Винчи, Альберти, Вазари и других знаменитых деятелей искусства. Например, стержневая мысль «Диалога» Дольче направлена на развенчание Микеланджело и возвеличивание Тициана с его удивительным колоритом и соразмерностью как главнейшим средством выражения идеи прекрасного. Только в живописи, как полагал Дольче, при умелом использовании красочных соотношений и светотеневых переходов возможно добиться пластичности изображения, передачи движения и наполнить пейзаж воздухом и светом. Другие же исследователи, в том числе венецианец Пино, полагали, что в соединении рисунка и пластики Микеланджело с колоритом Тициана искусство способно достичь совершенства.
Тициана мало занимали теоретические рассуждения, которые ему порой приходилось выслушивать на встречах с друзьями у Аретино. Хотя в ваянии Сансовино был не последним человеком, о чем говорят хотя бы две его скульптуры Марса и Нептуна на лестнице Гигантов во дворе Дворца дожей, он неизменно переводил разговор на архитектуру. Тициан вновь затронул с ним тему разговора об организации архитектурного пространства, начатого во время совместной поездки в Верону. Он вплотную подошел к работе над огромным полотном «Введение Девы Марии во храм», предназначенным для большого зала гостиницы братства Санта-Мария делла Карита, и нуждался в советах Сансовино и архитектора Серлио, который работал на урбинского герцога и нередко бывал в их венецианской компании. Поговаривают, что Аретино, воспользовавшись частыми отлучками Серлио, увел у него жену. Правда, ненадолго — соблазненная синьора Серлио одумалась и с повинной вернулась к мужу. Аретино не очень горевал и вскоре обзавелся новой пассией.