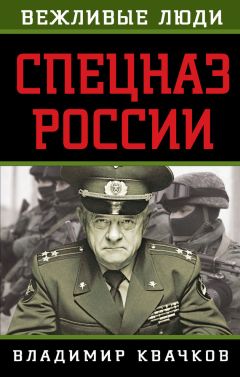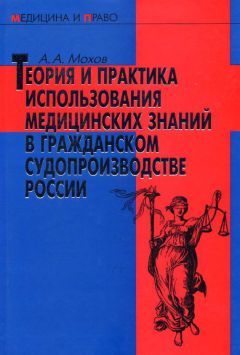Филипп-Поль де Сегюр - Поход в Россию. Записки адъютанта императора Наполеона I
Вечером достигли Дубровны, деревянного города, как и Ляды, — новое зрелище для армии, которая в течение трех месяцев видела одни развалины. Наконец-то мы были в старой России, вне снежных пустынь и пожарищ; наконец-то входили в населенную страну, язык которой был нам понятен. В то же время небо прояснилось, началась оттепель; мы получили кое-какие припасы.
Итак, зима, враг, одиночество и даже для некоторых из нас бивуаки и голод — все это сразу кончилось; но было слишком поздно. Император видел свою армию уничтоженной; ежеминутно имя Нея срывалось у него с языка с печальным криком! В эту ночь его приближенные слышали, как он особенно сильно стонал и кричал, что бедственное положение его солдат разрывает ему сердце и что, несмотря на это, он не может спасти их иначе, как остановившись в каком-нибудь месте, но где можно остановиться им, не имея ни военных, ни съестных припасов, ни орудий? У него не было достаточно сил, чтобы остановиться; поэтому надо как можно скорее достичь Минска.
В то время, как он высказал вслух свои мысли, польский офицер привез известие, что город Минск, продовольственный склад[228], и его последняя надежда, попал во власть русских! Чичагов вошел в него 16 ноября. Наполеон сначала молчал и был как бы сражен этим последним ударом. Потом он проговорил хладнокровно:
— Ну что же, нам не остается ничего другого, как прочистить себе путь штыками!
Но чтобы подойти к неприятелю, который ускользнул от Шварценберга или которого, быть может, Шварценберг пропустил[229], так как ничего не было известно, и чтобы избегнуть Кутузова и Витгенштейна, надо было переправиться через Березину под Борисовым. Поэтому Наполеон тотчас же (19 ноября из Дубровны) послал приказ Домбровскому не думать о сражении с Гертелем, а, сейчас же занять дорогу. Он написал Удино, чтобы тот быстро выступил к этому пункту и занял Минск; Виктор должен был прикрывать его шествие[230]. Отдав эти приказания, Наполеон несколько успокоился и, утомленный столькими страданиями, задремал.
Было еще далеко до рассвета, когда странный шум вывел его из дремоты. Некоторые рассказывали, что сначала раздалось несколько ружейных выстрелов, но это стреляли наши солдаты, чтобы заставить выйти из домов тех, которые там укрывались, и самим занять их места; другие заявляли, что из-за беспорядка в наших ночевках, когда можно было громко перекликаться, имя одного гренадера, громко произнесенное среди глубокой тишины, все приняли за тревожный возглас «Aux armes!»[231] указывающий на неожиданное нападение неприятеля.
Как бы там ни было, но все тотчас же увидели (или всем показалось, что они увидели) казаков, и вокруг Наполеона поднялся невообразимый шум военной тревоги и паники. Император, не смутившись, сказал Раппу:
— Посмотрите-ка: это, вероятно, подлые казаки не дают нам спать!
Но вскоре поднялся настоящий переполох: люди кидались в сражение или бежали и, сталкиваясь впотьмах, принимали друг друга за неприятеля.
Наполеон думал сначала, что это настоящая атака. Через город протекал на дне оврага ручей; император спросил, поместили ли остатки артиллерии за этим ручьем. Ему ответили, что это упустили из виду; тогда он побежал к мосту и сам тотчас же заставил перевести орудия на ту сторону оврага.
Затем он вернулся к своей гвардии и, останавливаясь перед каждым батальоном, говорил:
— Гренадеры, мы отступаем, но неприятель не победил нас. Так не погубим же сами себя! Дадим пример армии! Меж вами многие уже покинули своих орлов и даже свое оружие. Я обращаюсь не к военному суду для прекращения этих беспорядков, а к вам самим. Судите сами друг друга! Вашей чести я вверяю вашу дисциплину!
Он приказал повторить эту речь перед остальными частями войска. Этих немногих слов было достаточно для старых гренадеров, которые, может быть, и не нуждались в них. Остальные встретили одобрительными возгласами эту речь; но через час, когда двинулись в путь, они забыли ее. Что касается арьергарда, в особенности его ложной тревоги, он послал Даву гневный выговор.
В Орше были довольно значительные припасы провизии, плавучий мост на шестидесяти лодках, с опаленными снастями, и тридцать шесть пушек с лошадьми, которые были разделены между Даву, Евгением и Мобуром.
Здесь мы встретили в первый раз офицеров и жандармов, которые должны были арестовывать на обоих мостах через Днепр толпы отставших солдат, чтобы заставить их возвратиться под свои знамена. Но от этих орлов, прежде подававших столько надежд, теперь бежали, как от зловещих чудовищ!
У беспорядка была уже своя организация: нашлись люди, которые умели даже вызывать его. Собиралась огромная толпа, и эти негодяи начинали кричать: «Казаки!» Они хотели, чтобы идущие впереди них ускорили шаг и увеличивали сумятицу. Этим они пользовались и отнимали съестные припасы и одежду у тех, которые не были достаточно осторожны.
Жандармы, увидевшие эту армию впервые после ее поражения, удивленные при виде такого обнищания, испуганные таким расстройством, пришли в отчаяние. В беспорядке войско переправилось на дружественный берег. Он подвергся бы грабежу, если бы не гвардейцы и те несколько сот людей, которые оставались у принца Евгения. Наполеон вошел в Оршу с 6 тысячами гвардейцев, оставшихся от 35 тысяч! Даву — с 4 тысячами строевых солдат, оставшихся от 70 тысяч!
Этот маршал потерял все; у него не было белья, и голод изнурил его. Он набросился на хлеб, данный ему одним из товарищей по оружию, и с жадностью проглотил его. Ему дали платок вытереть иней, покрывший его лицо. Он воскликнул:
— Только одни железные люди могут вынести подобные испытания; физически им невозможно противостоять! Человеческим силам есть предел; мы перешли его!
Он должен был первым поддерживать наше отступление до Вязьмы. Он, следуя своей привычке, присутствовал при всех выступлениях, пропускал всех перед собой, отсылал каждого к своим рядам и всегда боролся с неустройством. Он заставлял своих солдат отнимать добычу у тех из их товарищей, которые покидали оружие; это было единственное средство удержать одних и наказать других. Тем не менее его обвиняли в методичности и строгости, неуместных среди всеобщей неурядицы.
Наполеон тщетно попытался рассеять это отчаяние. Когда он бывал один, слышно было, как он стонал при виде страданий своих солдат; но при посторонних он хотел казаться непреклонным. Поэтому он велел объявить, что каждый должен занять свое место в рядах; в противном случае он велит лишать чинов начальников и жизни — солдат.
Эта угроза не произвела ни хорошего, ни дурного впечатления на людей, ставших бесчувственными или окончательно павших духом, бежавших не от опасности, а от страдания, и менее боявшихся смерти, которой им угрожали, чем той жизни, какую им предлагали.