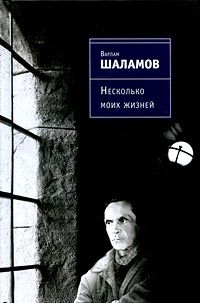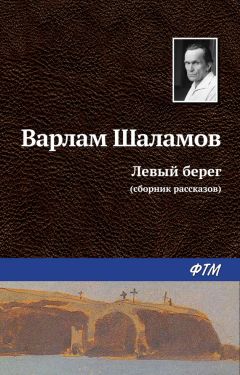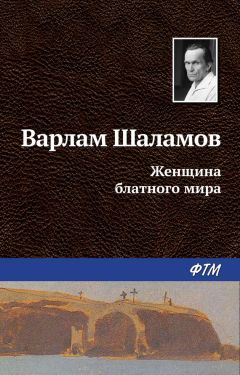Варлам Шаламов - Воспоминания
Пастернак не только не был отшельником, но держал руку на пульсе времени. Стремился выступать везде, где только можно было выступать.
— Пусть мне дадут зал и продают билеты. Я покажу — соберу ли я слушателей.
Меня позвали к Пришвину незадолго до его смерти. Мы не были знакомы раньше. Приезжаю. Пришвин в постели. Говорит:
— Позвольте пожать вашу руку и поблагодарить вас за все, что вы написали. Как же, думаю, умру и не познакомлюсь с Вами. — Вот такой разговор. Меня очень тронул этот визит, эти слова.
— Каково ваше суждение о Пришвине?
— Очень высоко ставлю. Очень. Понимал все. Природа ему нашептала. Он человек не книжный.
«И творчество и чудотворство». Я повторял про себя эту строку из «Августа», взволнованный этим рассказом. Позднее оказалось, что «отпущение грехов» понадобилось не только Пришвину.
Приехал итальянский писатель Мачиаро.
— Мои пьесы идут во всех театрах мира, я признан, я писатель и драматург. Но у меня есть нечто, о чем бы я хотел поговорить именно с вами и притом без переводчика.
Выбирается французский язык. Итальянец рассказывает:
— Я долго шел к своей славе, трудно. В молодости у меня был друг — его романы, стихи, пьесы уже получили известность. Я не буду называть его имени — вы знаете это имя… Мы были очень дружны. Я был в полосе несчастий, я думал только о смерти. Мой друг сказал: «Я чувствую, что успех мой случаен, я ничего уже не создам. Я тоже хочу умереть». И мы назначили день и час, чтобы покончить с собой каждый у себя дома. Завтрашний день, завтрашний час. Мой друг покончил с собой. А я — я остался в живых. Я струсил, понимаете, струсил. И целую жизнь я ношу на себе это невидимое страшное клеймо. И вот о том, что такое самоубийство, я и приехал говорить с вами, господин Пастернак. Мне кажется — в мире нет людей, поэтов, писателей, философов, так далеких от самоубийства, как вы. Говорите со мной.
Борис Леонидович говорил, что все проходят через это. Но не все кончают с собой.
— Часто плачу от волнения. Кажется, и причин нет. На экране покажут лошадь крупным планом, а у меня слезы от волнения. Или Брамса играют — плачу и приговариваю: плохой, плохой композитор…
— Содержание не должно перегружать стихи. Стихи должны быть легче, более игрой… Пример, где содержание раздавило стихотворение и убило поэзию — работы Владимира Соловьева… А обратные примеры, где поэт чутко следит, чтоб содержание, главенствуя, не ущемляло бы прав всего остального, — Тютчев, Баратынский, Рильке.
Это — тоже отрицание прежнего. «Сестра моя жизнь» велика огромной смысловой нагрузкой каждой строки. Емкость строк «Сестры моей жизни» необычайна, несравненна. И кроме того, разве есть у самого Б. Л. стихи, в которых бы содержание потеснилось, уступая главное место чему-то другому. «Все другое» в его стихах и прежних и новых занимает ровно столько места, сколько ему отведено содержанием.
— Не бывает гениального пустозвонства. Гениальный шут может быть только тогда, когда его шутки — не шутки.
— Конечно, я тоже дежурил на крыше дома, сбрасывал немецкие «зажигалки». Военные стихи мои не халтура, не принуждение. В большой войне тиран сливается с народом — это закон старый.
Борис Леонидович был не фанатик, не скептик, не поучающий вождь, проповедующий новую теорию искусства. Теория искусства и жизни была у него законченная, цельная, и лекций никаких по этому поводу он не читал, и взгляды излагались им всегда по какому-нибудь конкретному случаю.
Несомненно, он много думал о смерти, о смысле жизни, о своем месте в обществе — и сделал все выводы из своих размышлений.
Б. П. — Мне кажется, что по-настоящему захватить человека может только произведение, трактующее страдания, боль… Что в искусстве минор сильнее мажора. Что «Евгений Онегин» не потому волнует всех, что это — «энциклопедия русской жизни», а потому, что там любовь и смерть.
В. Ш. — Возможно… Кстати, Белинский отнюдь не такой большой авторитет среди русских литераторов. Есть старая традиция, отрицающая Белинского: Гоголь, Достоевский, Блок — большие имена.
24 июня 1956 года я обедал у Пастернака в Переделкине. Будучи человеком, не очень сведущим в вопросах этикета, явился я ровно к назначенному времени — и застал хозяина в ванне. Провели меня на террасу, познакомили с женой Луговского, которая явилась с какой-то литературной просьбой мужа — стихи для сборника должен был дать или обещать Пастернак. Гости съезжались на дачу. Пришел Асмус, Симонов (актер), ждали только Нейгаузов, чтобы начать обедать. Борис Леонидович читал на террасе нам куски из новой автобиографии, которую он тогда готовил для сборника своих стихов в Гослитиздате — сборник этот вышел много лет спустя в очень ощипанном виде, а автобиография была напечатана во Франции, кажется. У нас она ходила по рукам — Пастернак, как и Мандельштам, Цветаева, Ходасевич, обходился без помощи Гутенберга.
Эти куски автобиографии (которую я читал и раньше) о Блоке, о первом своем сборнике «Близнец в тучах», где никаких «технических» задач не ставилось, о попытке писать свободно, дать вылиться тому, что накоплено неизвестно как, как эта великая способность потом была понемногу утрачена.
На стенах переделкинских комнат — акварели отца, такие же, как и в Лаврушинском.
Помню, обратил я внимание, что в доме очень мало зеркал. Когда входишь в комнату, обычно раньше всего замечаешь зеркала — это самые живые кусочки любой комнаты. Здесь зеркал не было. Случайность? Нет. Хозяева дачи были уже в таком возрасте, когда зеркала могут только подсказывать неприятное, неизбежное.
И старость дом не миновала,
Как бы ни крепок был закал.
Вот почему зеркал здесь мало,
Напоминательных зеркал.
Б. Л. свел меня наверх, пока собирались гости, на чердак, откуда сходит небо — большая комната с диваном, с большим письменным столом, со шторами во все огромное окно. Распахнув эти шторы, Пастернак встречался ежедневно с небом, с лесом, с солнцем. Отсюда, из своего рабочего кабинета, присмотрел он и место для своей могилы. У трех сосен на Кладбищенской горе он и похоронен. Но он умер только через четыре года, еще не было ни Нобелевской премии, ни радиостанций всего мира, ревущих: Пастернак, Пастернак, не было ни письма Неру, ни героических усилий написать «Слепую красавицу».
— Вот хочу вам показать свой рабочий кабинет.
Я поблагодарил. Мы вышли к гостям. Пастернак: вот человек, который отразил в русской поэзии ту самую эпоху.
Приехали Нейгаузы — отец и сын с женой, пришла Ольга Берггольц, Луговской, и обед начался.