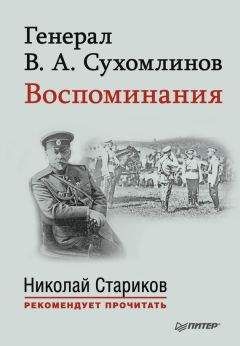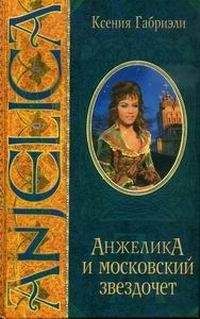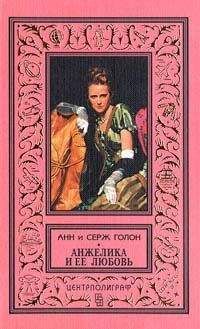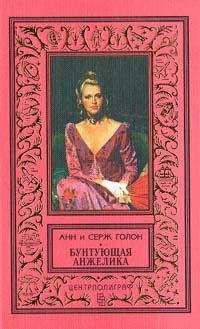Анжелика Балабанова - Моя жизнь – борьба. Мемуары русской социалистки. 1897–1938
Я думаю, что с самого начала она понимала, что я откажусь воспользоваться своим положением, чтобы выполнить ее просьбу. (Как могла я, которая побуждала крестьянских и рабочих матерей посылать своих сыновей в Красную армию, просить за своего собственного племянника?) Однако, несмотря на это, она продолжала приходить, и, когда она увидела, как мало у меня еды, она иногда приносила мне небольшие кусочки сухарей. Ее монолог длился часами – я не могла ни прервать ее, ни дать ей понять, что у меня есть другая работа. Каждые несколько минут нас прерывали какие-нибудь мои сослуживцы или люди, которые ожидали у меня приема и не знали, кто она такая. Она всегда приходила одетая как нищенка, так как боялась, что шпионы контрреволюционеров или людей, которые присоединятся к контрреволюции, как только она победит, донесут на нее за то, что она находилась со мной в контакте. Однажды я пошла вместе с ней и встретилась с остальными членами семьи. Мой зять был сломленным стареющим мужчиной, но меня больше всего тронуло отношение моего племянника. Он был всего лишь на пять лет моложе меня, мы росли вместе, и, хотя мы так сильно отличались характерами и интересами, мы всегда уважали мнения друг друга. Его интересовала только наука, и ему были даны все возможности развивать свои склонности. Только во время войны он начал – неохотно – работать в сфере дипломатии и стал секретарем министра финансов графа Витте. Когда я встретилась с ним в Одессе, только внешние признаки – одежда и общий вид – свидетельствовали о том, через что ему пришлось пройти. Я знала, что он взволнован нашей встречей, но он не показывал этого; не было ни слова обвинений, враждебности или недовольства. Его неодобрение социализма – к этому времени уже большевизма – было скорее интеллектуальным, нежели эмоциональным. Он считал, что большевики погубили Россию; его собственная гибель была второстепенна по сравнению с этим.
Пока мы разговаривали, я впервые узнала об инциденте, который произошел в Петрограде сразу же после Октябрьской революции. Мой племянник был арестован вместе с другими членами правительства, и, когда его привели к большевистскому комиссару, его спросили, не родственник ли он Анжелики Балабановой. (Моя сестра вышла замуж за нашего двоюродного брата, и поэтому у нас были одинаковые фамилии.) Мой племянник, который был слишком горд, чтобы принимать какие-либо знаки уважения из-за своей тети-коммунистки – даже если на кону, возможно, стояла его жизнь, – отрицал нашу с ним родственную связь. Вскоре после этого вся семья бежала на Украину.
Отношение его сестры к новой власти не было таким обезличенным. Ее ненависть к ней была окрашена горечью от потери ее собственных привилегий. В детстве и юности мать оберегала ее от всяких контактов с жизнью – в результате, несмотря на острый и серьезный ум, она превратилась в несчастную истеричку.
Год спустя, когда я вернулась на Украину с итальянской делегацией, я услышала, что моя семья бежала в Турцию. Несколькими годами позже, встретив своего племянника в Париже, я узнала, что моя сестра и ее муж умерли от голода в Константинополе.
Вскоре после своего возвращения из Одессы в Киев я оказалась вовлеченной в ситуацию, которой суждено было произвести одно из самых серьезных потрясений в моих большевистских иллюзиях. Это был инцидент с Пирро, который Александр Беркман позднее подробно описал в своей книге «Большевистский миф».
Летом в Киев приехал граф Пирро в качестве бразильского посла на Украине и обосновался в одном из лучших домов в городе. Он не делал секрета из своего враждебного отношения к большевизму или из своей дружбы с теми, кого притесняла власть. Набирая штат секретарей и офисных работников, он ясно дал понять, что не примет ни одного большевика – этот факт привлек к посольству большое число отчаявшихся людей, которые не могли получить работу при нынешнем правительстве. Какие-то из этих людей были взяты в штат, а другие были записаны в очередь людей, ожидающих вакансии. Прошел слух, что Пирро также соглашался давать бразильские паспорта тем, кто пытался бежать из страны.
В этот период ЧК под руководством Лациса, чрезвычайного уполномоченного в Киеве, проводила энергичную кампанию против спекулянтов и тех, кто хранил денежные запасы. Сотни людей были согнаны в концентрационные лагеря, и среди них было много бедных евреев, которых обвиняли в спекуляции или попытках покинуть Украину. Иностранцы также были обязаны заплатить некоторую сумму денег, прежде чем им позволяли уехать, и, как комиссар иностранных дел, я пыталась освободить от этого налога трудящихся: музыкантов, гувернанток, учителей и т. д., которые попадались среди этих людей. И снова мою канцелярию стали осаждать друзья и родственники обвиняемых, добиваясь моего вмешательства.
И тогда, когда я делала попытку разрядить эту ситуацию и спасти некоторых невинных людей, я впервые узнала о деятельности Пирро. Среди заключенных были люди, которых обвиняли в связи с Пирро, и среди них был его собственный секретарь. Позже мне стало известно, что многие из этих заключенных были казнены.
Когда я узнала о деятельности Пирро, я пошла к Лацису.
– Если уж кого и нужно арестовать из-за связи с Пирро, почему бы вам не арестовать самого Пирро? Этот человек действует явно как иностранный агент; по крайней мере, его следует выслать из страны.
– Мы позаботимся о нем, – ответил Лацис.
Но хотя из Московской ЧК приехал сам Петере, чтобы наблюдать за работой в Киеве, и хотя «заговорщики», связанные с Пирро, продолжали попадать в руки ЧК, с самим Пирро ничего не случилось, а потом наступление поляков заставило нас эвакуироваться из Киева.
Когда я возвратилась в Москву, я пошла к Дзержинскому, высшему руководителю ЧК. Дзержинского, как и его помощника Петерса, называли фанатиком и садистом; его внешний вид и манеры были как у польского аристократа или священника-интеллектуала. Не думаю, чтобы вначале он был жесток или равнодушен к человеческим страданиям. Он был просто убежден, что революцию нельзя укрепить без террора и преследований. Ленин доверил ему самую трудную задачу революции – и здесь он также выбрал «правильного» человека на нужное место, того, кто никогда не забывал свои собственные долгие муки в Сибири, пока революция не освободила его. И когда его специфическая работа поглотила его с головой, он принял решение не поддаваться влиянию и не отвлекаться на воззвания к его гуманизму, чтобы не нарушить свой революционный долг. После возвращения в Москву я заметила, насколько он стал более строгим и бескомпромиссным. Его, казалось, раздосадовала моя попытка вмешаться, и, когда я заговорила о деле Пирро, он посмотрел на меня с удивлением: разве я не понимаю, что Пирро – это агент ЧК, который был послан на Украину в роли провокатора?