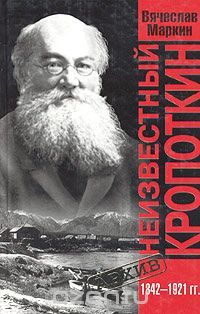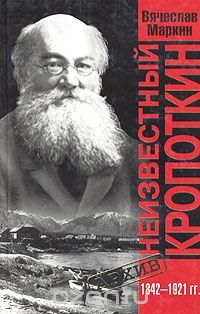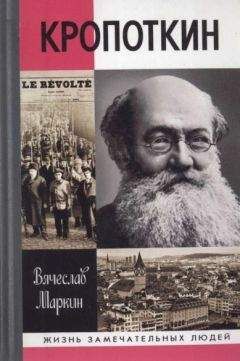Владислав Гравишкис - В семнадцать мальчишеских лет
— За пятый, за третий и еще кое за что.
— Ах, мать честная! Помню — политических из тюрьмы вызволять ходили, ты флаг нес.
— Было.
Ковшик, довольный тем, что узнал Андрея, перелез через тын, потряс ему руку, как старому приятелю, оценил:
— В ту пору справней ты был. Высидел срок-то?
— Друзья помогли.
— И опять неймется? Не казнишься? — Ковшик косился на кумач, колеблемый ветром.
Андрей спросил:
— Мастер Енько жив-здоров?
— Шиш-то?
— Что ему сделается?
— Второй дом ставит.
— Сибирью отчасти ему обязан, — сказал Андрей.
Оказалось, на заводе появились прокламации. Одна обнаружилась в «журнале работ мастера». Енько подсунул ее послушному рабочему, стал шантажировать и дознался об одном, причастном к листовкам. Его сломили — стал провокатором. Потом подсаживался в камеры.
— Поклон своим передайте от тех заводских, кто теперь в Даурах, — говорил Андрей. — Но не вечно они там будут, придет их время.
— Скоро ли?
— От вас зависит.
— Ну, от нас-то много ли. В третьем годе накормили свинцовой кашей.
Ванюшка не помнил о расстреле — знал по рассказам отца и матери, да от соседской старухи Прасковьи Оняновой, которая в теплый день обычно выходила за ворота, стуча деревяшкой о плиты, садилась там на лавку, глядела сверху на городскую площадь, на собор и колокольню возле нее, на памятник «царю-освободителю», трясла седой головой: «Погодите ужо, отольются кошке мышкины слезы…»
Рассказывая, ведет рукой Андрей — вон напротив, мол, если через Громотуху смотреть, сиреневый островок. Березы соку набирают, набухают почки, того гляди, выстрелят зеленым листом. Там, в этом островке, под сиреневой сенью, возле белых стволов лежат расстрелянные в третьем году, изувеченные японской войной, изведенные огненной работой. Человек, зачем на землю пришел? С чем уйдешь в нее? — тихое кладбище думать велит.
Обыск
Взрослые в пылу увлечения борьбой редко замечают, как это переживает окружающая их детвора. А если вдуматься, так она глубже переживает, чем взрослые.
Венедикт Ковшов, ветеран гражданской войныВозвращаясь с пруда, Рыжий завернул в торговый ряд сбыть уголь, и Ванюшка отправился домой один. Не доходя, услышал лай Кучума и почуял неладное.
Пес любил лежать перед домом, положив голову на лапы. Бывало, возвращаясь со смены, кто-нибудь чуть не на хвост ему наступает, либо баба второпях заденет ведром — отойдет в сторонку и снова ляжет. Но стоило появиться из-за угла полицейскому, поднимал лай, будто чуял, что приходят не с добром. Даже если кто из ребят кричал: «Полицейский идет!» — Кучум начинал рычать; шерсть на загривке поднималась дыбом.
Зато Ипатовым давал знать: близко незваные гости — убирай подальше то, что не для всякого глаза.
Ванюшку Кучум встретил на улице и побежал к воротам, заливаясь лаем.
Как только Ванюшка ступил за порог, полицейский придвинулся к двери, преграждая путь к отступлению. В доме шел обыск. Один из стражников стоял у двери, другой сидел на лавке так, чтобы видеть все. Двое искали. Он не удивился: не первый раз. Смутило то, что здесь стоял Панька, тот самый из Демидовки, который дальше всех кидал камни. Зачем он тут?
Ванюшка сел возле окна. Иван Федорович сидел на кровати. Мария Петровна укачивала Ниночку. Демьяновна ковыряла крючком проношенный носок. Тони с Леной и Витей не было — с утра ушли к тетке.
Полицейские искали на чердаке, стукались там о стропила, чихали от пыли, шарили в сенях, в ларе с овсом, в сундуке, в бочке с водой.
Получили, наверное, от начальства жару-пару, суются в углы, как ошпаренные тараканы. Панька бледен и, видимо, сильно напуган.
Он устроился в тот же цех, где работал Иван Федорович, подручным к Михаилу Гордееву, тоже большевику, чего, конечно, не знал. Оторванный от степной шири, от раздольных полей, от тишины, которую нарушала лишь вода, падающая на мельничное колесо, мычание коров да крик петухов, — он оглушен был заводом, уханьем паровых молотов, от которых сотрясалась земля.
Сквозь плотный туман пыли, висящий в воздухе, едва угадывались фигуры рабочих. В печах с огненными зевами нагревались болванки. Поворачивая раскаленную болванку, кузнецы обрабатывали ее — на вид податливую и послушную — иная достигала нескольких пудов весу, и от нее шел страшный жар.
Панька привыкал тяжело.
Когда болванка в печи не успевала нагреться, он радовался отдыху. Медленно, как все здесь, шел по земляному полу, вершка на три покрытому мягкой пылью, к выходу.
Он будто оторопел, и ему жаль было своей прежней жизни на мельнице, мерещились фунтовые язи, которых удил под плотиной. Скоро он выделил нескольких человек в цехе, к которым остальные относились особенно, с уважением. Они не пили, не сквернословили, и их, кажется, побаивался мастер — скорый на расправу. Среди них были Ипатов и Гостев.
В тот день, возвращаясь после смены, Панька возле дома Гостева увидел толпу.
— Все ищут чего-то, — говорила женщина с ведрами на коромысле.
— Шныряют, пропасти на них нет, — отозвалась Другая.
— На полати полез, черт бесстыжий, — конопатая девка в цветастом платке заглядывала в окно.
Михаил Гостев мигнул Паньке: подожди. Вскоре какой-то мальчишка сунул ему сверток и убежал. Панька отошел и в переулке поглядел — книги. Решил зайти к Ипатовым — дядя Ваня скажет, что делать. Только во двор, а за ним — полицейские. Растерялся, забежал в избу, крикнул: «Идут!» — и кинул книги на пол. Иван Федорович успел поднять их и сунуть под подушку. Теперь Панька стоял, опустив голову.
Вернувшись с чердака, околоточный Вавила и другой полицейский допрашивали Паньку, но тот ничего не мог сказать.
— Подручный, — сказал Иван Федорович, — недавно из деревни, заводских порядков еще не знает.
Наблюдавший с лавки полицейский подошел, поднял подушку:
— Ага, голубчик, попался? — потряс книгами, — от меня, братец, и блоха не ускочит!
Вавила с укором поглядел на Ипатова: пей, мол, после этого с вами водку, ешь пироги.
Второй полицейский достал карандаш и приготовился писать.
— Твои книжки? — спросил просто потому, что должен был спросить.
Ванюшка поглядывал на полицейских и думал, как выручить отца. Такой же случай был на рождество, года три назад. Вечером ждали отца. Резали кружочками картошку, пекли на раскаленной железной печке и ели, соблюдая очередность. Иван Федорович недавно вышел из тюрьмы, куда попал за организацию забастовки, и не мог устроиться на работу. Перебивались тем, что Мария Петровна получала от доктора Пономарева, обстирывая его семью, да сколько могли, помогали товарищи. Всякий раз, когда Иван Федорович задерживался, дома волновались и не садились без него за стол.