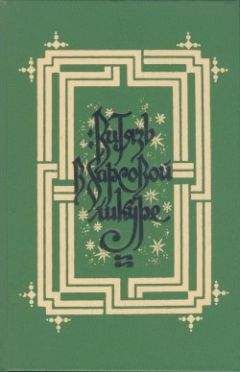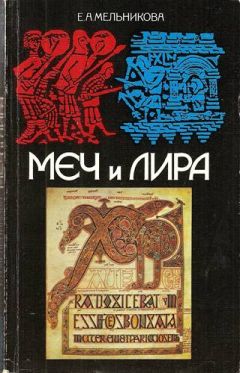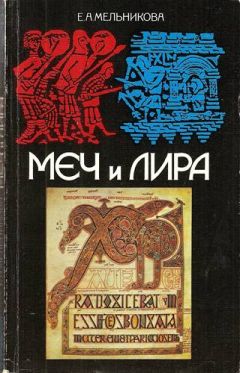Алексей Смирнов - Козьма Прутков
ПОЛОНСКОМУ
В воспоминаниях о Блоке Корней Чуковский пишет: «Как-то раз… мы пошли зимней ночью по спящему городу и почему-то заговорили о старых журналах, и я сказал, какую огромную роль сыграла в моем детском воспитании „Нива“… и что в этом журнале… было изумительное стихотворение Полонского, которое кончалось такими… стихами:
К сердцу приласкается,
Промелькнет и скроется[212].
…Блок был удивлен и обрадован. <…> Он как будто впервые увидел меня… а потом позвал к себе, и уже на пороге многозначительно сказал обо мне своей матери, Александре Андреевне:
— Представь себе, любит Полонского! — и видно было, что любовь к Полонскому является для него как бы мерилом людей…»[213]
Наше отношение к тому или иному художнику, поэту, композитору свидетельствует далеко не только о состоянии нашего художественного вкуса, эстетических пристрастий. Художник несет с собой мир. Большой или маленький. Светлый или темный. Добрый или злой. Реальный или вымышленный. И наше восприятие этого мира говорит о нашем мирочувствовании вообще. Когда мы сравниваем с другим человеком свое впечатление об увиденном или прочитанном, то совпадение впечатлений или их расхождение — знак того, близок или далек от нас этот человек вообще, а не только в связи с предметом обсуждения. Художник собирает вокруг себя родственные души и не удерживает чуждое себе. Вот почему для Блока имя «Полонский» прозвучало как пароль и Чуковский, произнесший его с радостным изумлением, был допущен в дом и представлен матери Александра Александровича. Отношение к поэзии Полонского сделало гостя своим в блоковском мире. Он знал пароль.
Яков Полонский (1819–1898) принадлежит к числу классических русских лириков. Он умеет создать в стихах атмосферу, что намного труднее и значительнее, чем сюжетные хитросплетения. Именно это восхищало в поэзии Полонского его современников — Тургенева, Фета, Льва Толстого, Бунина. Смотрите, какая тревога нагнетается в нескольких строфах стихотворения «Финский берег» и как наивно, как потешно-неловко она разрешается в последней строфе, что и позволило Козьме Пруткову отозваться на оригинал Полонского своим подражанием, к которому вполне приложимо определение «пародия». У Пруткова комично воспроизводится все: тон, сюжет, диалогичность, стихотворный размер, составные рифмы прототипа.
Яков Полонский ФИНСКИЙ БЕРЕГЛес да волны — берег дикий,
А у моря домик бедный.
Лес шумит; в сырые окна
Светит солнца призрак бледный.
Словно зверь голодный воя,
Ветер ставнями шатает.
А хозяйки дочь с усмешкой
Настежь двери отворяет.
Я за ней слежу глазами,
Говорю с упреком: «Где ты
Пропадала? Сядь хоть нынче
Доплетать свои браслеты!»
И, окошко протирая
Рукавом своим суконным,
Говорит она лениво
Тихим голосом и сонным:
«Для чего плести браслеты?
Господину не в охоту
Ехать морем к утру, в город.
Продавать мою работу!»
«А скажи-ка, помнишь, ночью,
Как погода бушевала,
Из сеней укравши весла,
Ты куда от нас пропала?
В эту пору над заливом
Что мелькало? не платок ли?
И зачем, когда вернулась.
Башмаки твои подмокли?»
Равнодушно дочь хозяйки
Обернулась и сказала:
«Как не помнить! Я на остров
В эту ночь ладью гоняла…
Тот, кто ждал меня на камне,
Дожидался долго. Зная,
Что ему там нужен хворост,
Дров сухих ему свезла я!
Там у нас во время бури
В ночь костер горит и светит;
А зачем костер? — на это
Каждый вам рыбак ответит…»
Пристыженный, стал я думать.
Грустно голову понуря:
Там, где любят, помогая,
Там сердца сближает буря…[214]
Поле. Ров. На небе солнце.
А в саду, за рвом, избушка.
Солнце светит. Предо мною
Книга, хлеб и пива кружка.
Солнце светит. В клетках птички.
Воздух жаркий. Вкруг молчанье.
Вдруг проходит прямо в сени
Дочь хозяйкина, Маланья.
Я иду за нею следом.
Выхожу я также в сенцы;
Вижу: дочка на веревке
Расстилает полотенцы.
Говорю я ей с упреком:
«Что ты мыла? не жилет ли?
И зачем на нем не шелком.
Ниткой ты подшила петли?»
А Маланья, обернувшись,
Мне со смехом отвечала:
«Ну так что ж, коли не шелком?
Я при вас ведь подшивала!»
И затем пошла на кухню.
Я туда ж за ней вступаю.
Вижу: дочь готовит тесто
Для обеда к караваю.
Обращаюсь к ней с упреком:
«Что готовишь? не творог ли?»
«Тесто к караваю». — «Тесто?»
«Да; вы, кажется, оглохли?»
И, сказавши, вышла в садик.
Я туда ж, взяв пива кружку.
Вижу: дочка в огороде
Рвет созревшую петрушку.
Говорю опять с упреком:
«Что нашла ты? уж не гриб ли?»
«Все болтаете пустое!
Вы и так, кажись, охрипли».
Пораженный замечаньем,
Я подумал: «Ах, Маланья!
Как мы часто детски любим
Недостойное вниманья!»
ПЛЕЩЕЕВУ
Алексей Плещеев (1825–1893) — потомок занесенного в «Бархатную книгу»[216] древнейшего боярского рода Плещеевых — родился в месяц и в год восстания декабристов: 4 декабря 1825 года. А спустя четверть века вместе с Достоевским и другими петрашевцами — сторонниками «утопического социализма», теми, в ком, по словам Д. В. Григоровича, вспыхнул «негодующий, благородный порыв против угнетения и несправедливости»[217], Плещеев был приговорен к смертной казни, которая за минуту до исполнения приговора была заменена солдатчиной в Уральских линейных батальонах.