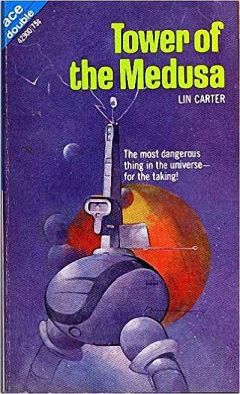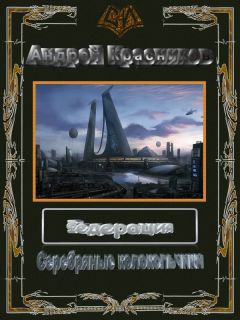Елена Полякова - Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура
Сулера вписали в семейное, алексеевское поминание, конечно, «Львом» — православное имя, имя еретика из совсем близкого к Новодевичьему хамовнического дома.
Слово Станиславского изложено в газетах семнадцатого года, неоднократно перепечатано (оригинал — в музее театра) Ольгой Ивановной. Опубликована рукопись через много лет, в первом «Ежегоднике» театра, в 1944 году.
По воспоминаниям В. Я. Виленкина, публикацию пришлось «пробивать» в цензуре («Ленин ушел»). Все же ее напечатали, но без окончания. То есть без того письма Сулера, которым завершил свое выступление Станиславский. Не столько письмо, сколько размышление, подобное тому, которое послал Сулер шесть лет назад, сразу после похорон Л. Толстого.
Прочитанное Станиславским — про то же. Про страдания людские, особенно детские. Во имя чего? Во имя кого?
Слова К. С., обращенные к Богу, в которого он всегда веровал: «Господи, возьми к себе душу усопшего, нашего милого, незабвенного, дорогого Сулера, потому что он умел любить, потому что в жизни среди соблазнов, пошлости, животного самоистребления — он сберег в себе милосердие, продиктовавшее ему перед смертью вот эти кристально чистые слова любви». Дальше К. С. читает слова Сулера, обращенные… к кому?
«Боже мой, как горько, как горячо и тепло я плакал сегодня все утро. Плакал так, что подушка и руки были мокрые от слез. Отчего? Оттого, что есть дети. Много детей на улицах с худенькими, как палочки, руками. Оттого, что они ночью, на большой площади, под холодными электрическими фонарями бегают по трамваям и продают газету „Копейку“, и бранятся, и скверно ругаются; оттого, что городовой их гоняет, и мне его за это жалко. Оттого, что такая бесконечная тьма новорожденных в воспитательном доме с худенькими, сморщенными, старческими личиками, с бледными, едва ворочающимися пальчиками, лежат рядами, одинокие, на столах, с пришитыми номерками на них и жадно ловят воздух, голодные кричат до изнеможения, затихают и сохнут, и умирают, глядя в пустоту, отыскивая в этой пустоте умирающими глазами любви, и с тоской по ней умирают одинокими в мокрых, холодных пеленках.
Оттого, что служанки там уже не чувствуют этого моря страданий, в котором они полощут белье, и ходят не как в храме, а как по фабрике.
Оттого, что столько страдания везде. Что во всех этих страданиях виноват я, в большинстве от них, оттого, что я это знаю и ничего не делаю, чтобы прекратить эти страдания, оттого, что я всех люблю и могу плакать часами и, главное, оттого плачу, что мало во мне любви ко всем им, так мало любви, что могу жить среди всего этого и заниматься своими делами, так мало веры и знания, что ничего не могу делать для них и не делаю!
Господи, дай мне веры или дай такое большое сердце, которое само бы повело куда надо и заставило бы жить как надо!
Господи, дай! Если ты есть»…
Вахтангов, читающий вслед за К. С. свои воспоминания-размышления, кончил их той записью, которую оставил Сулер в «Студийных книгах»: «Помнить только, что вам надо поскорее почувствовать себя сильными единением с тем, что вас создало, — Художественным театром. И поскорее — так чует мое сердце».
Естественно, вышло так, что все ученики Сулера, которые имели множество своих учеников, начинали обучение нового поколения со своих воспоминаний о заведующем своей студией и учили так, как он учил. Не лекциями-беседами, не уроками по «системе Станиславского», но постижением пьесы и ее образов согласно «системе». То есть согласно своей готовности к приятию образа. В себя, в свои воспоминания, в свои чувства и действия. К слиянию себя — с этим образом. Авторским — режиссерским — моим — актерским. Главными в их возвращениях к Сулеру были Вахтангов и Чехов. Михаил Чехов в зарубежье. В России двадцатых годов он противоборствовал с любой властью, над собою, художником. Мечтал о полной свободе от всех, для себя. Отдавал свою духовную и физическую энергию в студиях Германии, Англии, Голливуда, там память о нем реально благодарна. Вахтангов продолжился в искусстве Рубена Симонова, Евгения Завадского, Марии Кнебель, в режиссуре и жизни которых продолжался Сулер.
* * *Юрий Александрович Завадский никогда не видел Сулержицкого. Однако без участия Завадского сборник о Сулере казался невозможным. Ведь он, Завадский, играл святого Антония в метерлинковско-вахтанговских версиях, в которых Вахтангов видел Антония — как бы Сулером, творящим добро, уходящим куда-то, к неведомому Богу. Также Завадский был Калафом, принцем астраханским в «Турандот», предваренной импровизациями, играми первостудийцев, этюдами Сулера и Михаила Чехова.
Как робела я (Е. П.), обращаясь к нему с просьбой: «Хоть немного… для сборника…». Я знала Завадского, выходящего со своими «моссоветовцами» раскланиваться — не в самом сердце Москвы, на перекрестке Садового кольца и улицы Горького, но на площади, носящей имя революционера Журавлева, на окраине, где был построен когда-то Народный Дом, отданный затем театру. Площадь круглая, театр — как пирог на блюде. От метро до театра идти изрядно; приезжий родственник, которого я вела на Журавлевку, уныло говорил: «Разве настоящий театр сюда загнали бы?» Внутри — простор, свет, в программе всем известные имена (Марецкая, Плятт, Раневская, Ванин). У входа в зал стоит барин прошлого века. Молодой, но выглядящий старше своего возраста, либо джентльмен лет шестидесяти, выглядящий гораздо моложе. Принц Калаф, граф Альмавива из «Женитьбы Фигаро» Станиславского; оглядывает публику, к нему почтительно подходят пожать руку, он пожимает руки мужчинам, целует руки дамам, улыбается фабричным девушкам с Журавлевки. Словно хозяин Народного Дома, на свои средства его построивший.
Как легко Завадский сказал — «конечно», как быстро сделал и переслал мне небольшую рукопись, без лишних слов и патетики. Он знал Сулера, потому что его бессчетно показывал Евгений Богратионович:
«Вахтангов ни на секунду не пародировал Сулержицкого. Он пытался как бы побывать несколько минут в нашем присутствии самим Сулержицким, он как бы играл Сулержицкого по школе Станиславского, он жил сущностью, ритмом Сулержицкого так, как он их чувствовал.
Он нам показывал Сулержицкого в те моменты, когда тот, думая что он совершенно один, бродил по пустому помещению Первой студии Художественного театра.
Нам ясно представлялась пустая, почти темная студия, горит какой-то дежурный свет, и вот в этом пустом, опустевшем помещении (это ведь особое ощущение — опустевшего театра) бродит или где-то сидит в углу Сулержицкий.
Вот он поднялся, вот он, прищурившись, почти закрыв глаза, покачиваясь и что то мурлыча про себя, что-то не то произносит, не то напевает, потом ухмыльнулся, потом двинулся дальше и снова остановился. Вот он так живет, ходит. Бродит, мечтает, воображает. Сочиняет часами.