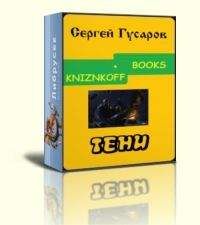Сергей Снегов - Книга бытия (с иллюстрациями)
— Папа, как тебе работалось в ЧК?
Он еще больше нахмурился — вспоминал прошлое. И заговорил не сразу.
— Работалось… Разве это работа? Работаю я в цеху. Что-то чиню, что-то мастерю. Выдаю продукцию. А в ЧК была революционная деятельность. Не так создавали новое, как искореняли старое.
— Вот об этом и спрашиваю — как искореняли?
Он понял, что репликами от меня не отделаться, и заговорил свободней.
— Дела определялись обстановкой. А в те годы она была такой — донская Вандея. Историей, надеюсь, интересуешься? Белогвардейцев разбили, самые отъявленные улепетнули в Константинополь. А их дети? Их отцы и родственники? Всему казачеству, всей вражеской интеллигенции не убежать. Вот и живи среди таких людей!
— Но ведь не все на Дону были врагами?
— Большинство! Мы вернулись победителями — и встретили врагов. Кто-то затаился, втихаря дожидаясь, когда мы скапустимся, а кто-то чистил припрятанный в сарае обрез. Жуткие Авгиевы конюшни. И задача одна — чистить! Беспощадно, беззаветно чистить!
— А как чистили?
— По-разному. Кое-где это поручали летучим частям, даже продотрядам. А у нас в Ростове — ЧК. Многое видели стены наших подвалов! Каждую ночь — карательные акции. Аресты ни на день не прекращались.
— Папа, ты расстреливал арестованных?
— Для этого были специальные люди. Мы составляли список приговоренных к вышке, вручали его командиру исполнителей — те проводили операцию.
— А списки ты подписывал?
— Это была функция начальника ЧК. Если он уезжал в командировку — да, подписывал!
— Скажи еще… — Я не сразу решился это выговорить. — В тех расстрельных списках было много имен?
— По-разному. Десятки — в каждом. Но раз на раз не приходился — бывало и до сотни.
— Сотня?.. В неделю, в месяц?
Он поглядел на меня с возмущением, как на дурака.
— В ночь! Я же сказал: акции совершались ежесуточно. — И отец повторил зло и выразительно: — Вандея же! Все вокруг кипит. Не только в горах — в открытой ковыльной степи банды. Или мы их, или они нас. Я всегда стоял за одно: мы — их!
Он говорил, а я вспоминал одесскую ЧК. Одесса не была Вандеей, в ней больше болтали, чем стреляли. Но на Маразлиевской, в роскошном здании, каждую ночь шли расстрелы. Я запомнил, я навеки хорошо запомнил, как за окном нашей камеры рычали моторы — чтобы заглушить крики тех, кого казнили прямо во дворе. Иногда они гремели до утра — и до утра умножались смерти…
— Ну хорошо, до сотни в ночь, — сказал я. — Но как же вы проводили следствие? Сколько нужно было юристов, чтобы каждого допросить, вызвать свидетелей, провести очные ставки…
— Боюсь, Сережа, ты не представляешь себе тогдашней обстановки. Мы боролись с оголтелым врагом. Арестовывали и судили по классовому признаку. Классовое сознание — вот что было определяющим, а не всякие там юридические формальности.
Я знал, что рискую, — и все-таки не удержался.
— Классовое сознание и классовые признаки, никаких юридических формальностей… Что же получается, папа? Значит, если бы я прошелся по Ростову в накрахмаленном белом воротничке и при галстуке, это было бы достаточным основанием, чтобы…
Отец зло сверкнул на меня желто-коричневыми глазами.
— А ты не ходи в двадцатом году по Ростову в накрахмаленном воротничке!
Мы оба помолчали, успокаиваясь. Я смотрел на него: элегантная тройка, дорогая белая рубашка, отлично вывязанный многоцветный галстук… Тогда, в двадцатом, в Ростове, одного его нынешнего вида хватило бы, чтобы попасть в роковой список.
У нас дома в комоде завалялась коробка с галстуками (он купил ее еще до ссылки) — их было шесть, все — новые. Потом, через несколько лет, я ее часто вспоминал. Отец, рабочий, покупал галстуки по полудюжине, а я, доцент Одесского университета, нахальный пижон, как меня иногда называли, ни разу не раскошелился больше чем на один — и тот в получку. Шесть смертных приговоров в простой картонной коробке, растерянно и возмущенно думал я, шесть «разменов» по классовому признаку…
— Столько ты всего испытал, — сказал я горько, — а зачем? Чтобы потом снова выискивать дорогую одежду и мечтать о собственном магазине…
Отец успокоился быстрей меня. И, конечно, самообладания у него было несравненно больше. Думаю, он вообще не понял, с чего это я так разошелся. Ему показалось, что меня (как и его самого, кстати) задело, что он живет совсем не так, как мечтал когда-то.
— Бытие определяет сознание, — сказал он и снова улыбнулся. — А сознание — это в том числе и желания, которые у тебя возникают. Сказать, чтобы я очень стремился в торговцы… Нет! Но бороться против них больше не буду. Есть дела и поважней. Я удовлетворил твое любопытство? Удовлетвори и ты мое. Поговорим о твоей жизни.
Я знал, что этого разговора не избежать — и готовился к нему всю ночь. Я боялся его — но он оказался много трудней, чем я представлял. Тот приступ откровенности, который неожиданно настиг меня при тете Киле, просто не мог повториться!
Отец слушал внимательно, не перебивая, только изредка кивал, словно одобряя все, что я говорил. Во всяком случае, я понял это именно так, хотя на самом деле ему понравилось, что я не лгу и не приукрашиваю ни себя, ни свои отношения с мамой, а вовсе не мое поведение.
— Так и мама рассказывала. И про школу, и про то, что отказываешься заниматься дома, и про каждодневные хождения из одного кино в другое, и про собрания и прогулки, и про товарищей и подруг, и что способен целую ночь пропадать неизвестно где. Она крепко тобой недовольна! Между прочим, ты, кажется, пишешь стихи? И, наверное, под Есенина — он теперь в моде, особенно его кабацкие приключения. Прочти что-нибудь свое — из есенинского.
Стихи я начал сочинять с шести лет — и даже успел показать отцу ту детскую белиберду (он тогда на короткое время вернулся из ссылки). В школе рецидивы рифмоплетства участились. И Есенин мне нравился, даже очень, — я охотно декламировал его всем, кто хотел слушать. Но многих других поэтов я любил еще больше, знал лучше и подражал им охотней. Впрочем, чаще я старался вообще никого не копировать.
Я все же прочел одно из своих «есенинских» стихотворений (оно было написано для Фиры Володарской) — унылую рифмованную говорню о том, что в жизни нет ничего хорошего, а дальше станет еще хуже. Собственно, я всегда был оптимистом, но бодрые слова плохо укладывались в стихи — жалобы, даже лишенные оснований, поддавались рифмовке куда лучше. Потом я не раз убеждался, что начинающие (тем более — бесталанные) писатели всегда стартуют с уныния, трагических происшествий и ужасов, а не с веселья, удач и благолепия — катиться по ровной литературной дорожке всегда проще, чем живописать то, что по природе своей доступно лишь дарованию, которое не страшится трудностей (конечно, если при этом не скатываться до банального сюсюканья).