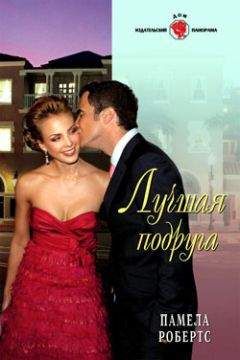Леонид Гроссман - Пушкин
Пушкин относился к Прасковье Александровне с чувством серьезной и почтительной привязанности. Он посвятил ей «Подражания Корану», «Простите, верные дубравы», «Быть может, уж недолго мне…».
В тригорском доме возникали из-за него семейные драмы. Весною 1826 года Прасковья Александровна даже увозит в дальнюю деревню свою старшую дочь, без памяти влюбившуюся в Пушкина. Но девушке суждено было любить безответно. Памятником этого глубокого и неразделенного чувства остаются взволнованные письма Анны Николаевны из тверских Малинников в село Михайловское с признаниями и укорами: «Вы тираните и раните сердце, цену которому не знаете…» Но великий художник оценил все же эту сердечную драму: современники считали Анну Вульф прототипом Татьяны.
Тригорские «романы» протекали беспокойно, но завершались благополучно. Пушкин отвечал на них обычно стихами, такими чудесными, как знаменитое «Признание» («Я вас люблю, хоть я бешусь…»), «Подъезжая под Ижоры» и ряд других, коротких и веселых.
В молодом тригорском обществе было много шуток, увлечений, дружеской влюбленности, «игры в любовь». Но подлинной женою Пушкина в Михайловские годы и даже матерью его ребенка стала крестьянская девушка — дочь крепостного приказчика Ольга Калашникова.
Мы мало знаем о ней, но знаем наверное, что она искренне нравилась Пушкину. «Не правда ли, она мила?» — с непосредственным восхищением пишет он Вяземскому, называя ее своей Эдой, по имени героини Баратынского:
Отца простого дочь простая,
Красой лица, души красой
Блистала Эда молодая.
Баратынский отмечает в ней и душевные качества: «Готовность к чувству в сердце чистом…» Об этом же свидетельствует и единственное дошедшее до нас письмо Ольги Калашниковой.
Пушкин впоследствии говорил, что законная жена — это шапка с ушами, в которую «вся голова уходит». Не такой была его михайловская подруга, работавшая над пяльцами в соседней девичьей, смиренно вышивавшая свои узоры, пока развертывались под его пером пестрые строфы «Онегина» и летописные заставки «Комедии о настоящей беде Московскому государству». Душевное спокойствие и творческая сосредоточенность были так полны, что летом 1825 года Пушкин мог написать своему другу Раевскому: «Я чувствую, что мои духовные силы достигли совершенной зрелости, я могу творить».
IX «КОМЕДИЯ О БЕДЕ МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ»
1
Крупными событиями южных лет были для Пушкина его творческие встречи с Байроном в Крыму и с Шекспиром в Одессе. Это открывались новые горизонты.
Развитие поэта шло катастрофично и бурно. Еще в Кишиневе Пушкин начинает историческую трагедию «Вадим» в классицистическом стиле Вольтера и Аль-фиери, с ораторским пафосом и гражданскими провозглашениями просветительских идеалов:
Ты видел Новгород, ты слышал глас народа.
Скажи, Рогдай, — жива ль славянская свобода?
В библиотеке Воронцова Пушкин прочитывает Шекспира. Вскоре поэт заявит историку Погодину: «У меня кружится голова после чтения Шекспира, я как будто смотрю в бездну».
Сильнейшее впечатление производят на него в 1824 году трагедии, в которых разрабатывается мотив узурпаторской власти. Может ли верховный повелитель приносить пользу народу, если преступно само происхождение его господства? Клавдий, убивший своего брата Гамлета, только «король-паяц, укравший диадему». Ричард III, решивший пробивать путь к власти «кровавым топором», гибнет от ожесточения и бешеной ненависти к своему победоносному сопернику Генриху Тюдору. Такова же участь смелого Макбета. Не в подобном ли сплетении исторических судеб подлинный материал для национальной трагедии? Вопрос, по-видимому, решался утвердительно, но образ и драматический узел еще отсутствовали.
Помимо обширной темы, раскрывающей законы исторического процесса и личной совести, в шекспировской драматургии поражала та свобода композиции, присущая его «публичному» «городскому», народному театру, которая в корне видоизменяла изысканный «придворный спектакль», предназначенный для королевской семьи, аристократии и елизаветинских сановников. Установленным правилам дворцового представления, с его пристрастием к драме ученой и классической, труппа знаменитого шекспировского «Глобуса» противопоставляла драматургическую систему, утвержденную вкусами лондонской улицы: свободное от правил античной драмы бурное и увлекательное течение действия, независимый от академических требований сочный и вольный народный язык, смелую и мощную лепку характеров, изменчивую и пеструю вереницу героев, жадно вбирающую в свой поток горожан, царедворцев, воинов, шутов, ремесленников, актеров, беспрерывно переносящихся из чертогов в харчевни, из келий в парки, из тесных лондонских переулков на поля исторических сражений. В этой многолюдности, многоплановости действия таилась целая философия драмы, восходящая к народному зрелищу, к площадному представлению и одновременно отменяющая все приемы придворного спектакля с его жеманным этикетом и условными ситуациями.
Перед Пушкиным открывался новый путь: развернуть борьбу царя и народа в широком и вольном потоке всеобъемлющей исторической хроники.
В Михайловском это сложное задание неожиданно получает свое разрешение.
Еще в ноябре 1824 года Пушкину прислали из Петербурга два новых тома «Истории» Карамзина, вышедшие весною. В них излагалась эпоха царствований Федора Иоанновича и Бориса Годунова.
События «смутного времени» увлекли поразительными аналогиями с политической современностью. «Что за чудо эти два последние тома Карамзина! — писал вскоре поэт, — какая жизнь! C'est palpitant comme la gazette d'hier» («Это трепещет, как вчерашняя газета»).
Новые главы карамзинского труда разрешали и труднейшую творческую задачу, уже несколько лет томившую Пушкина: найти тему для трагедии на материале русского прошлого. История царя Бориса несла в себе все элементы для такого творческого опыта в новом свободном и монументальном стиле.
Историк-художник и первый русский шекспиролог Карамзин намеренно придал своей концепции Борисовой судьбы характер драматической хроники. Приняв политические памфлеты Шуйских (в которых они возводили на Годунова обвинения в убийстве царевича Дмитрия) как подлинный исторической документ, Карамзин изображает выборного царя московского одаренным властителем, деятельность которого опорочена «злодейством» и в силу этого несет в себе зародыш гибели. В сплетении исторических событий раскрывается начало «морального возмездия»: «Имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, было и будет произносимо с омерзеньем во славу нравственного неуклонного правосудия».