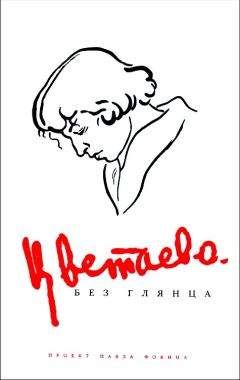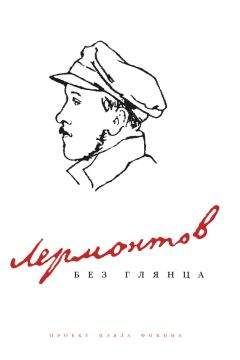Павел Фокин - Твардовский без глянца
16. IX.1955
‹…› Не томит то, что пишется туго, – тут я что-то понял или понимаю постепенно. Вчера немножко пробилось нечто в развитии „Друга“ („Я с ним – он со мной“), может, даже получится. И именно тогда начало пробиваться, когда уже примирился внутренне, что не идет, и пусть. Не раз так было замечено, что не тогда именно открывается, когда стучишь изо всей мочи. А иногда – чуть толкнул на всякий случай, уже решив уйти отсюда, – чуть толкнул, а оно и открылось, – там и запора нет. ‹…›
Я вроде и близок уже к концу, но с трудом преодолеваю некое отупение – строфы то, кажется, ничего, то видишь, что это кое-какой сопряженный набор слов. Стих сработался, вял, как старый хрен. ‹…›
19. IV.1956
Нанизываю на вялую нить первоначального плана главы, строчки, строфы, движения почти нет. Не решил еще, перебрать ли всех пассажиров вагона в их отношении к молодоженам-новоселам, тем самым напомнив и о них. И даже батюшка с медалью кивнул, должно быть, хотел благословить, да постеснялся. Может быть, нужно. ‹…›
25. IV.1956
Десять дней, каждый день после утренней прогулки сажусь за стол, мурыжу начатую еще в Москве главку, но дело подвигается плохо. Правда, эти дни хоть ввели в дело, обозначили, что, куда, как и к чему, – примерно, конечно.
Втоптать сюда всю остроту и сложность проблемы Москвы и периферии – нелегко. Начало самое есть, есть очень еще черновой набросок вагонного разговора о Москве и периферии. „В уме“ – размолвка молодоженов (по неизвестным причинам) перед их станцией. Стали появляться в одиночку. Может быть, это начало того, что еще разовьется у них на месте назначенья. А, может быть, просто так. Но невероятно, чтоб она села во встречный поезд на этой станции. Третий момент – лирическая Москва – в противовес житейско-жилищной.
Идет все порой так трудно и обманчиво, что день пройдет – нет ни строчки вполне надежной, но оставить этой главы я не могу сейчас, надо ее одолеть. Утешаюсь тем, что „Друг“ был еще трудней во второй своей части, которая потом явилась прямо-таки вдруг – после чтения Сацу и видимого тупика. Логические суждения мне не вредят, – они помогают мне скорей увидеть, где рыть и куда прорубаться своими способами. ‹…›
3. V.1956
Когда позволяю себе решить, что ничего не выходит, не выйдет, нечего себя обманывать и зря понуждать, и что остается только подобрать, что уцелеет в виде строчек и строф отдельных, вижу, что нет, многое уже получается и, может быть, должно окончательно получиться. Но тут, действительно, вялость, неуверенность, иногда обрыдлость такая, что непреоборимо клонит в творческий сон.
Все прилично, терпимо, даже бойко, теперь уже, пожалуй, вплоть до того, как должны заговорить супруги, но все какое-то вчерашнее, несвежее. ‹…›
4. V.1956
Решил отложить главу о молодоженах, чувствуя, что вяло и натянуто все, стих усталый, жидкий, как спитой чай.
Обратился к наброску 54 г. о „культе“. Может быть, разовьется что-нибудь, но это, чтобы только делать что-нибудь в этом роде, отписаться ото всего этого хоть для себя. А там видно будет. Путевка уже к концу, а дела – ни хрена. Целое полугодие такое. Дальше нельзя так, нужно что-то предпринимать, нужно ехать, нужно слышать, видеть, нужно жить». [9, VII; 153, 166, 172–180]
В дали сибирской
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«Главные объекты впечатлений поездки на Ангару.
1. Перекрытие.
2. Падун.
3. Байкал.
4. Тайга, цветы, трава, запахи, гроза в тайге.
5.
Александровский централ и лагерь». [9, VII; 183]
Николай Павлович Печерский:
«Ранним июльским утром 1956 года отправились на стройку. На крутых, всхолмленных берегах Ангары тьма народа – и строители, и приезжие гости, и просто досужие ротозеи. Работа уже кипела вовсю. Двадцатипятитонные самосвалы с грохотом въезжали на дощатый наплавной мост, обрушивали в реку огромные бетонные кубы. Река не желала подчиниться, свивалась в гигантские жгуты, уносила прочь кубы и скальный грунт. А самосвалы все шли и шли…
Пожалуй, из всех явлений природы наиболее близким к этой картине был ледолом на большой, густо заселенной по берегам реки. Та же величественная и тревожная праздничность, то же ощущение чего-то необычного и значительного, когда часы и минуты стоят дней и лет. Но там чаще всего люди лишены деятельного, практического участия в том, что происходит, а здесь именно они заведуют всем, что совершается с водой, землей, камнем и металлом.
‹…› Кстати, за все время, что толклись мы на берегу Ангары, Твардовский ни разу не вынимал записной книжки. И дело не в его отличной памяти.
Книжка, как сам сказал об этом Александр Трифонович, мешает видеть самое главное и интересное, оставляет в итоге лишь какие-то верхушечные представления о событиях и людях, с которыми встречался. Но книжка такая у Твардовского все же была. Он доставал ее уже потом, чаще всего по утрам, когда отчетливее и яснее работает мысль. Сидит у стола, ссутулив плечи, что-то вспоминает, делает записи отчетливым, убористым почерком». [2; 312–313]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«Порог Падун. Грохочет бешеный Падун, грохочет, воет и трубит неутомимо день и ночь… А те, что съехались сюда, как медлительны они в сравнении с ним. И ночью спят, и нянчат маленьких ребят, и варят бедный свой обед на сырых дровах. Они из разных мест, их душит холод, ест мошка, но сколько они еще теряют времени по-пустому: и заседают, что ни день, и говорят про ложь и лень, и спорят тут из-за жилья, из-за рубля. И ходят вечером в кино и т. д. Как будто все им – все равно. И он бежит, гремит скорей по трассе каменной своей. Сбегают воды, как с крыльца. Как год назад и миллион годов. Ах, люди, думает, куда вам со мной управиться. Едва ль. Как медлительны их, людей, орудия – и стрелы кранов, и ковши, грызущие породу. Попробуйте, попробуйте, я здесь миллион лет работаю – едва пробил себе проход. А вы его загородить хотите.
Ему снизу не видно, что из-за горы ведут бичевник (береговой подъездной путь). За шумом собственным своим не слышит он, как камень рвут, дробят, сверлят, как обошли со всех сторон, как накапливаются в засаде, как месят бетон и вяжут сталь. И тысячи своих машин… И эти девочки в штанах, и старик, и всяк за четверых, за семерых. И день решенный недалек… Сомкнутся воды в вышине, и смолкнет бешеный порог…
Эта запись сделана однажды утром на Падуне в „доме заезжающих“.