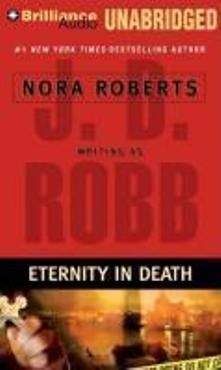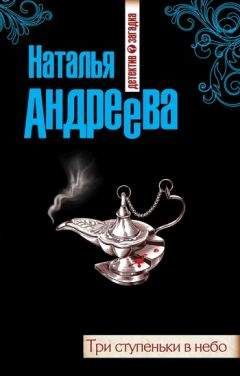Елена Боннэр - Постскриптум: Книга о горьковской ссылке
Бог ты мой, какие глупости я пишу. Я хочу дом! Это я-то, которой уже пора считать не дни, а часы своей свободы во всем, даже в праве вот так вольно, как сейчас, стучать на машинке — выстукивать все те недостижимые для меня глупости, как «я хочу дом».
А знаете, у меня — мне 63 года — никогда не было дома, что дома — просто своего угла. Вначале как у всех: детство, потом странное сиротство — папа и мама арестованы, и никто не знает, живы или нет, мы живем в одной комнате — бабушка, брат, сестра, я. За стеной (все слышно) жил человек по имени Федоров, там его жена и четверо детей, он всегда пьян и бьет их. Когда они успевают убежать от него, то проводят ночь у нас, сидя на сундуке. Этот сундук до сих пор стоит в маминой комнате на Чкалова, и кто бывал у нас (журналисты, ученые, конгрессмены и сенаторы) тоже сиживали на нем. Федоров никогда не врывался к нам в комнату — боялся моей бабушки; ее все боялись, кажется, кроме меня. Вообще-то я тоже боялась, но с ареста родителей я на всю жизнь запретила себе бояться чего бы то ни было. Потом армия. Пожалуй, было время, когда был немножко «мой дом» — мое купе в вагоне санпоезда, в котором я была старшей медсестрой. Война кончилась, и в моей комнате вместе со мной жили многие — мои подруги, вернувшиеся в Ленинград из эвакуации. Потом в коммунальной квартире, в одной комнате, жили мы — я, муж, двое детей, мама; часто у нас ночевали еще друзья. А всего в квартире жили 48 человек, уборная была одна, часто в нее стояла очередь. И дети должны были ходить со своим горшком — я боялась заразы, — а они из-за этого ссорились со мной: я явно нарушала их «прайвеси». Потом в Москве, в двух комнатах маминой квартиры, жили мама, я и дети, потом к нам пришел мой зять, потом пришел Сахаров. Пожалуй, впервые я хозяйка — где бы вы думали? — в ссылке в Горьком. Я не хочу этого. Я хочу дом.
У моей дочери есть дом в Массачусетсе, в Ньютоне. Мне так радостно думать, что у нее есть дом. Ее семью закрутили наши дела, наши горьковские ужасы и наши страдания, дети, заботы. Они забыли про свой дом. Мне очень хочется, чтобы они вернулись к заботам о нем. Он так много уже поработал для нашей семьи — в нем с приезда живет дочь с мужем и двое их детей, в него приехал и жил в нем мой сын, потом его жена, потом родилась их дочь. Совсем не по-американски в доме жили две семьи — почти коммунальная квартира, и почти третья семья тут же: приехала моя мама, и невозможность вернуться: «Куда?» — в Горький, в ссылку, это я сама своими руками тогда должна лишить ее свободы — держит ее тут уже почти шесть лет. А скольким эмигрантам этот дом стал первым домом на этой земле! Я хочу дом. Моя мечта — дом мой, для меня, для моей семьи, то есть для нас с мужем, — неосуществима, как неосуществим рай на земле. Но я хочу дом. Пусть не мне, а сыну, его семье. И реально хотим, собираемся его купить. И вдруг я узнала много нового. Надо, чтобы были хорошие школы, ведь внучке уже три года, и впереди школа. Надо хорошую экспертизу, и надо адвоката — есть друг, уже хорошо. Хочется, чтобы было какое-то подобие загорода: отпуск короткий, и пусть ребенок растет не в городском чаду. Хочется, чтобы было не очень далеко от работы: двое работают, машина одна. Хочется, чтобы был полный фундамент и подвал (я раньше про такую заботу и не слышала). Хочется три спальни, чтобы бабушка, моя мама, могла быть или хотя бы бывать с ними. Хочется в подвале комнату и ванну — для гостей. Хочется кабинет — Алешке-то хочется не только дом, но и место дома заниматься математикой. Хочется, чтобы у дома не было цены или чтобы она была поменьше. А она… ох! Хочется, хочется, хочется.
А вам не хотится под ручку пройтиться?
Мой милый, хотится, хотится, хотится…
Больше всего даже не детям, а мне. И мне пора складывать чемодан. Еще не завтра, но очень скоро. Дети живут здесь, я — там. Я хочу дом. Я не хочу войны. Но и американцы хотят дом. Американцы не хотят войны.
Я пишу в гостинице, в Нью-Йорке, который сам по себе и город, и страна, и мир. Я на восьмом этаже. Комната угловая. Окно на 61-ю улицу, другое — на парк. В двух ракурсах, сходясь под углом, — панорама, к которой ничего не надо добавлять. На фоне голубизны неба серые (под солнцем светлее, в тени темней) силуэты высоких, прорезающих небо домов, линии, линии, линии. Кто может говорить, что Нью-Йорк некрасив? Когда Нью-Йорк наконец уберет свои черные лестницы с фасадов и сделает Гарлем не мусорным мешком, а зеленым городом, то объединенная нация черных и белых нью-йоркцев будет гордиться своим городом, может, самым особенным в мире, городом — олицетворением понятия «город».
А мне он — город из городов, уже готовый в наше будущее, только не надо разговоров апокалиптического свойства, у меня от них ощущение оскомины. Будущее будет, и, конечно же, нам, людям, станет мало только автомобилей, и с этих плоских крыш будут взлетать всякие красно-желто-голубые и зеленые вертолетики, дельта-планчики и прочее индивидуально-летательное, и с каждого будет доноситься встречному: «Have a nice day!»
Какая разница, в июне или в другое время года встретятся Горбачев или Рейган, и какая разница, кто из них капризничает. Горбачев ли похож на девицу, которую приглашают поужинать, а она, надув губки, так это протяжно: «Не знаю, может быть, надо подумать, пожалуй, что и нет, — явно давая понять: — А меня и другой может пригласить, может, даже и получше и вообще… Сколько заплатите?» Рейган ли девица, заявляющая: «Я или она. Сейчас или никогда». А может, все-таки оба они — кавалеры-мужчины, мужи? И тогда встрече, ужину, ланчу, взаимоулыбкам не стоит придавать столько значения. На эти мысли меня навела газета — 1 апреля 1986, — они мне вообще-то совсем лишние все трое: и газета, и два главы государств.
Я, наверно, один из самых необеспокоенных на Земле людей. Не обеспокоенных теми проблемами, которые Рейган и Горбачев грозятся обсуждать или не обсуждать, если встретятся или не встретятся. Мне мой муж всего четыре месяца назад (Господи, я его не видела уже четыре месяца, и так хочется быть вместе) сказал: «Мир сейчас так далек от войны, как давно не был». Я ему верю и в этом смысле живу спокойно. Тем паче, мне хватает своих забот, своих волнений и своей беды под завязку. Вот лучше я запомню на все мне отпущенное время, что сегодня я видела невероятное из окна этой комнаты. Я встала рано — едва после шести. Над деревьями парка чуть-чуть клубился дым проклевывающейся листвы, а трава еще даже не была зеленоватой. В ней был оттенок желтизны — оттенок начала травы, ее новорожденности.
А сейчас 12 часов, и зеленый дым уже вовсю над деревьями, и трава стала-таки зелененькой, нежно-нежно зелененькой. Так быстро, всего за шесть часов, пришла весна. Господи, как хочется, чтобы все в этом мире было хорошо. Говорят, Нью-Йорк лучше всего весной. Я пошла в город.