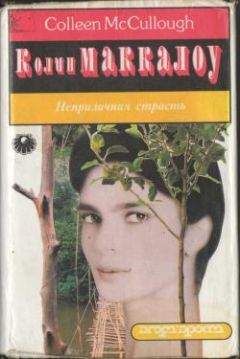Корней Чуковский - Современники: Портреты и этюды (с иллюстрациями)
— Кто здесь бедный? — как-то спросил он, очутившись в деревне, и пошел по крестьянским избам, наделяя своими «ненужными» деньгами одичавших от нужды «мужиков».
Щедрость его нередко была безрассудной. Ему, например, говорили о каком-то Сикорском:
— Не давайте ему денег: он плут!
Но он дал ему сто, потом двести и снова двести, покуда благодарный Сикорский не украл у него остальных.
Его обманывали часто и со смаком. Вспомним, как покупал он живую свинью — на вес, не подозревая, что хитрый крестьянин, заранее накормив ее солью, дал ей выпить несколько ведер воды, специально для того, чтобы она стала тяжелой. Хитреца уличили в обмане, но барин заплатил ему сполна: «Нужно же платить за науку!»
Эта простодушная доверчивость не была следствием неопытности. Жизнь он знал превосходно, недаром исколесил всю Россию, — практик-инженер, строитель железных дорог, всегда вращавшийся в самой гуще народа. Но охотно и весело, наперекор своему житейскому опыту, он снова и снова поддавался обманам нуждающихся.
Бывали в нашей литературе другие такие же щедрые люди, например Глеб Успенский. Но Глеб Успенский, отдавая другим и пальто, и чемодан, и последние остатки белья, совершенно забывал о себе, обрекая себя на голод и холод.
Гарину это было несвойственно. Натура жизнелюбивая, умевшая ценить и комфорт, и довольство, он с одинаковой щедростью тратил деньги на других — и на себя. Бедность была бы ему не к лицу; аскетическое самоотречение тоже. Но ничего скопидомного, ни малейшей заботы о будущем не было в этой кипучей душе.
Его огневой темперамент нередко раскрывался в его творчестве. Характерно, что чуть не во всех его книгах люди влюбляются с первого взгляда, мгновенно, безоглядно, порывисто — в вагоне, на пароходе, на станции. Психология внезапной, вспыхивающей как порох влюбленности изображается в его произведениях постоянно. Вспомним его «Сумерки», «Встречу», «Клотильду», милый набросок «Когда-то», повести «Студенты», «Инженеры»…
Примчался к невесте бог знает откуда в специально заказанном экстренном поезде, бросился перед ней на колени, поцеловал ее ногу.
— Я с первого мгновения, как только увидел вас… я решил, что мне… вы или никто!..
Но длительной, ровной любви он не знал: влюбится и тотчас разлюбит.
— Как безумно любил я ее! — вспоминает о какой-то женщине Тема. — Потом разлюбил. Как ее звали? (Подчеркнуто мною. — К. Ч.)
Горячая отцовская кровь: его отец, боевой генерал, отличался отчаянной храбростью. Таков и он сам, «Тема» Гарин: побывал и под турецкими пулями и под японской шрапнелью.
«Я, как очарованный, слушал пение пролетавших пуль, — пишет он во время японской войны. — Нежное пение птички, но еще нежнее, еще тоньше».
Нет сомнения, что в своем «Детстве Темы» изобразил он себя. В Теме та же пламенная страстность:
— Милый папа, отруби мои руки!
В повести маленький Тема вскакивает ночью с постели, крадется к колодцу, куда брошена Жучка, спускается туда по вожжам и с опасностью для жизни спасает собаку, отчего его болезнь становится чуть не смертельной…
Проходят десятки лет. Гарин — седой инженер, писатель, общественный деятель, но в душе он все тот же Тема.
На Кавказе увидел со скалы утопающих турок и бросился в бушующее море.
— Нельзя, вы отец семейства!.. Не сюда, не сюда, убьетесь!
На пятом десятке уехал к хунхузам, в дебри, где не ступала нога европейца, и там, среди хищных зверей, изведал романтику приключений и подвигов. В его тогдашнем дневнике мы читаем:
«Залпы выстрелов?! Хунхузы?! Где ружье?!. Стреляют в бумажные двери?..»
Хунхузы подожгли фанзу, где он спал, открыли стрельбу из орудий, и, убегая от них, он помчался по стремнине водопада.
Капитан отказывается от таких путешествий: как бы волна не разбила его небольшого суденышка.
— Пусть бьет!
— Но мы все тогда очутимся в воде.
— Ничего!..
Такой это был человек. Не боялся же маленький Тема вскарабкаться на огромную лошадь и, замирая от восторга и ужаса, скомандовать Иоське: «Бей!»
И в творчестве был он такой же. Всякую тему брал с бою. Долго обрабатывать роман или повесть было ему не по нраву. Он писал второпях, без оглядки и, сдав рукопись в редакцию журнала, несся в курьерском поезде куда-нибудь в Сибирь или на Урал по неотложному делу… «А потом, — вспоминает Елпатьевский, — со станций летели телеграммы, где он просил изменить фразу, переделывались или вставлялись целые сцены, иногда чуть не полглавы… Насколько мне известно, это был единственный русский писатель, по телеграфу писавший свои произведения».[79]
О другом таком же случае вспоминает и Горький — о том, в каких условиях Гарин писал своего «Гения» для «Самарской газеты».
«Начало рассказа, написанное на телеграфных бланках, привез в редакцию извозчик с вокзала Самары, — говорит Горький. — Ночью была получена длиннейшая телеграмма с поправками к началу, а через день или два еще телеграмма: „Присланное — не печатать, дам другой вариант“. Но другого варианта он не прислал, а конец рассказа прибыл из Екатеринбурга…»
О другом своем рассказе Гарин говорил Алексею Максимовичу:
«Это написано в одну ночь, на почтовой станции. Какие-то купцы пьянствовали, гоготали, как гуси, а я писал».
Окруженный врагами, в маньчжурской степи он работал, как у себя в кабинете. Бумага промокала от дождя, руки коченели от холода, рукописи погибали в пути. «Одну тетрадь со сказками я потерял, к сожалению», — сообщает он в предисловии к «Корейским сказкам».
Товарищи, смеясь, говорили, что пишет он всегда «на облучке».
Телеграфная быстрота творчества придавала его слогу крылатость: он даже при желании не умел бы писать в медленном темпе, бесстрастно и вяло, — даже если бы нарочно постарался. Взрывчатыми, короткими фразами ведет он свой торопливый рассказ. Восклицательные знаки, междометия так и мелькают у него на страницах:
«„Кра-кра-кра!“ — это затрещала наша лодка…», «Гоп! Последний прыжок…», «Бревна, бревна… Вверх и вниз! Держи лодки — разобьет! Ха-ха! Мимо!»
Такими звукоподражаниями, вскриками, возгласами изобилует его отрывистая, эмоциональная речь. Так и кажется, что во время рассказа он машет руками, смеется, ужасается, плачет — участвует в рассказе всем телом. Драматизируя каждый описываемый им эпизод, он изображает события так, будто они происходят сейчас. Каждая его вещь — словно запись только что происходящих событий.
Вообще он не умел относиться к своему писательству как к мастерству и никогда не ставил себе чисто литературных, формальных задач. Форма его импровизаций никогда не занимала его. Вся его сила в душевной тревоге. Оттого-то его автобиографические повести «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» так взволнованно воспринимаются читателем. Их проглатываешь, даже не успевая заметить, хороши они или плохи, талантливы или просто насыщены страстью. И не заменен ли в них талант темпераментом? Читаешь и волнуешься за Тему: выдержит ли он латинский экзамен? выздоровеет ли после смертельной болезни? женится ли на Аделаиде Васильевне? Волнуешься так, что даже забываешь подумать, какими литературными средствами достигается это волнение. И невольно прощаешь небрежный язык, рутинные приемы письма, частые провалы в банальность, которых ни за что не простил бы другому.