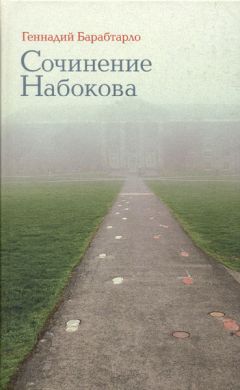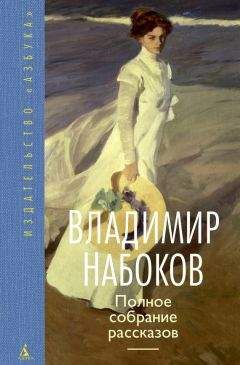Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова
Таким образом, последняя реплика Флоры своей приятельнице, которая хочет найти в романе о «Лауре» то место, где описана ее «потрясающая смерть», возможно, должна была навести читателя на мысль, что он что-то важное с первого пробега упустил и, чтобы это наверстать, ему нужно вернуться к началу книги и перечесть ее всю под другим углом зрения.
Чтобы сгладить образовавшуюся выемку, эти три заключительные карточки я в своем русском переводе перенес в конец вместе с двумя предыдущими, которые обрываются в тот момент, когда муж Флоры, Филипп Вайльд, читает роман «Моя Лаура». Если я ошибаюсь и это не финал всего романа — чего, конечно, нельзя ни доказать, ни опровергнуть, — то во всяком случае у этого собранья глав лучшего, т. е. более набоковского, окончанья нет Возможно, конечно, что конца нам тоже «не довелось узнать».
6.Две особенности этих отрывков обращают на себя внимание при первом же чтении. Первая фонетического рода: во множестве мест Набоков последовательно ставит рядом или поблизости слова с той же начальной буквой (brown book, Carlton Courts in Cannes, high heather, pain andpoison etc.). Это слабое на русский слух созвучие в английской литературной традиции считается полноправной и даже порой навязчивой аллитерацией, но здесь она до того часто встречается (около сорока раз), что становится основным поэтическим приемом, для прозы чрезмерным.
Другая, гораздо более интересная особенность, важная для понимания недоведомого нам замысла, состоит в том, что на небольшом пространстве «Лауры» необычайно много ретроспективных ссылок. Начитанный любитель Набокова без труда разглядит смещение имен и положений прежних его книг. Жену Гумберта Гумберта насмерть сбивает автомобиль, в одну минуту делая его отчимом и опекуном Долли, — а тут дочь (дочь ли?) Губерта Губерта, Дэйзи, задавил пятящийся грузовик, тоже насмерть[171]. Аврора Ли не может не привести на память свою однофамилицу Аннабель из той же книги и в той же роли[172]. Во второй главе «Пнина» собранные в психотерапевтическую группу жены «с полнейшей откровенностью» сопоставляют достоинства и недостатки своих мужей: «Ну значит так, девочки: когда Джордж прошлой ночью…» (82); здесь в третьей главе «девочки» тоже сравнивают положительные качества своих компаньонов (карточка 42). Агониста «Дцы» зовут Иван Вин — здесь в интересном месте появляется ни к чему не прикрепленное в имеющемся тексте имя Ивана Бона. Манускрипт последней главы труда Вайльда, умирающего от разрыва сердца, похищен у машинистки и напечатан неизвестным нам лицом (карточка 94) — подобно тому, как «Бледный огонь» Шейда, убитого не ему предназначавшейся нулей, был изъят в суматохе Кинботом и напечатан им с его не относящимся к поэме грандиозным комментарием, из которого, как печь из кирпичей, постепенно складывается самостоятельная повесть.
Можно найти и русские реминисценции, но уже не без труда. В одном из первых разсказов Набокова «Месть» в сжатой до схемы форме дается тема ревности в последней стадии. Там, как и здесь, ученый изобретает профессиональный и оригинальный способ убить жену: в «Мести» профессор-биолог подкладывает ей в постель скелет и она умирает от испуга; в «Лауре» профессор-невролог — или, может быть, автор «Моей Лауры» — как будто переходит от опытов над собой к методическому уничтожению распутной жены, которая умирает «потрясающей смертью» (карточки 61 и 113–114). Правда, в раннем разсказе, в отличие от позднего романа, жена невинна: она не неверна, а суеверна; ее муж, как и Отелло, — жертва мистификации, а не одной только ревности.
В названиях картин деда Флоры «Апрель в Ялте» и «Старый мост» завсегдатай книг Набокова узнает «Весну в Фиальте» и любимое его стихотворение тех же лет «Ласточка» (из «Дара»: «Однажды мы под вечер оба / стояли на старом мосту…»). Губерт Губерт умирает в лифте, который «хочется думать, шел наверх», и тут можно вспомнить одно намагниченное место в «Защите Лужина», где домашний гидравлический лифт, доставив куда нужно француженку Саши, возвращался пустой: «Бог весть, что случилось с ней, — быть может, доехала она уже до небес и там осталась».
Транзитное заглавие неоконченного романа, как уже сказано, отсылает к зашифрованной фразе из «Приглашения на казнь». Голос за кадром — вернее, «скользящий глаз» — походит на якобы первое повествовательное лицо «Соглядатая» и начала той же «Весны в Фиальте». Даже идея автогипнотического избывания своего тела встречается в странном и замечательном маленьком стихотворении 1938 года, где загадка бытия разрешается во сне: «Решенье чистое, простое. / О чем я думал столько лет? / Пожалуй, и вставать не стоит: / Ни тела, ни постели нет».
Все это напоминает стратагему Набокова в последнем изданном им романе, который открывается перечнем сочинений повествователя, отличающихся от книг автора изощренной трансформацией названий и смещением хронологии. Азартный соблазн (которому не должно поддаваться) понуждает попытаться отыскать на этих карточках следы всех его главных книг, хотя бы по списку «Арлекинов». Иногда даже кажется, что «Лаура» задумана отчасти как последний смотр его арлекинам, перед тем как их угонят в степь[173]. На такой сводный парад выводит перед смертью старые свои темы и образы Севастьян Найт в прощальной книге.
7.Русское издание «Лауры» было приготовлено мною в течение нескольких месяцев, с большим перерывом, вызванным техническими обстоятельствами. Оно состоит из трех частей: предисловия Дмитрия Набокова; сохранившихся на 138 карточках черновиков книги (и то и другое в моем переводе); и описательного и истолковательного послесловия, вариант которого читатель держит теперь перед собою.
Некоторые специфические особенности «Лауры» затрудняли перевод на русский язык[174]. В нем, как впрочем и в оригинале, немало сучков; есть и задоринки. Нельзя сказать, как в одном примере у Даля, что «книга написана переводчивым языком». Например, некоторым английским наименованиям и глаголам из половой номенклатуры нет русских соответствий, потому что многое из того, что пристало современному английскому языку, или прямо отсутствует, или неудобно в печати на русском (который не нам современник).
Любопытно, что столетие тому назад дело обстояло как раз наоборот и в Англии, и тем более в Америке. Толстой тут дает лучшие примеры — и по смелости своих литературных экпериментов, и потому, что его переводили при жизни больше всех русских писателей. Так, англичанка Констанция Гарнетт не решилась перевести слово «беременна» (из «Анны Карениной»), а американец Натан Доль (Nathan Haskell Dole, журналист) писал в предисловии к своему переложению той же «Анны Карениной» (1880 года), что «в иных сценах реализм черезчур силен на наш пуританский вкус» (и он признается, что ему пришлось такие сцены подправить)[175]. И даже Изабелла Гапгуд, переводчик умелый и честный, отказалась от лестного предложения Толстого, которого очень высоко почитала и с которым виделась в его имении, переводить «Крейцерову сонату». В 1890 году она ему писала (перевожу с английского): «Даже принимая во внимание обычную свободу выражения, которая в России (и вообще в Европе) шире, чем это принято в Америке, я нахожу язык «Крейцеровой сонаты» чрезмерным в своей откровенности. <…> Это первое, что поражает читателя <…> и надолго задерживается у него в сознании как, в нравственном отношении, дурной вкус во рту. Описание медового месяца и супружеской жизни <…> нельзя и цитировать». Перемена разительная: теперь ни один номер любимого американской интеллигенцией еженедельного журнала, некогда пристойнейшего и высоколобого, а ныне провинциального «Нью-Йоркера», не обходится без столовых ложек дегтя черной брани и самых вульгарных непристойностей.