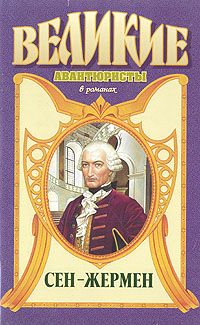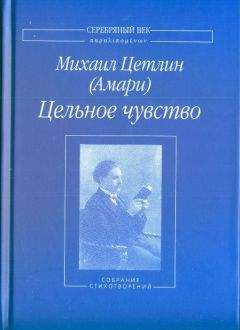Михаил Пупин - От иммигранта к изобретателю
Потеря такого близкого человека, как мать, вызывает таинственную перемену в направлении ваших умственных и духовных устремлений. Вместо поисков света, который должен осветить смысл вещей внешнего физического мира, к чему обычно направлены устремления молодого ума, он начинает искать свет, который должен осветить смысл того, что происходит во внутреннем мире, в глубоком мире его души. После смерти матери вопрос «Что такое свет?» перестал быть для меня самым важным вопросом. В течение долгого времени мои мысли были заняты вопросом «Что такое жизнь?». Я углубился в самоанализ и, будучи, как и большинство славян, в некоторой степени, человеком настроения, мог бы навсегда потеряться в лабиринте всякого рода метафизических размышлений над самим собой, если бы меня не спасло одно обстоятельство. Два американских студента с такой же жаждой знаний, какая была у меня, приехали в Берлинский Физический институт. Один из них был выпускником Гарвардского университета, ныне покойный Артур Гордон Вебстер, выдающийся профессор физики в Кларкском университете; другой — из университета Джонса Гопкинса, Джозеф Свитман Эймс, ставший впоследствии директором физической лаборатории в том же университете и достойным преемником знаменитого Генри Августа Роуленда. Их чисто американский энтузиазм и целеустремленность спасли меня от того, что я не впал в меланхолию и усыпляющее безразличие, называемые иногда идеализмом мягкосердечного и сентиментального славянина. Они рассказывали мне новости о высших научных устремлениях в университетах Гарварда и Джонса Гопкинса. По словам Вебстера, новая Джефферсоновская физическая лаборатория в Гарварде была просто чудом. Эймс же неутомимо рассказывал мне о замечательных исследованиях Роуленда солнечного спектра, и я никогда не уставал его слушать. Однако иногда я удивлялся, почему эти два студента приехали к Гельмгольцу, если у них были такие возможности для изучения физики на родине. Эймс удивлялся тоже и в конце года снова вернулся к Роуленду. Но Вебстер остался, хотя он никогда в моем присутствии не признавался открыто, что Физический институт в Берлине был на много лучше Гарвардского. Признания Вебстера и Эймса убедили меня, что в Соединенных Штатах быстро развивалось мощное движение в пользу научного прогресса. И мне захотелось поскорее закончить мои занятия в Берлине и вернуться в Соединенные Штаты. После смерти матери Европа уже меньше притягивала меня.
В то время в Германии большое внимание привлекала к себе новая естественная наука — физическая химия. Гельмгольц очень интересовался ею. Я прочитал его новейшие статьи по этим вопросам и они напомнили мне о том, что я встретил в книге Максвелла по вопросам тепла в связи с работами Вилларда Гиббса и Ейле. Я вскоре узнал, что новая наука, отцами которой якобы были немецкие ученые, была предвидена по крайней мере за десять лет до этого Гиббсом. Следовательно обвинение Де Токвилля, что американская демократия ничего не сделала для абстрактной науки, было ошибочно, думал я, это было ясно очерченное маленькое открытие, и Гельмгольц согласился со мной. Он даже посоветовал, что это могло бы послужить материалом для исследований к докторской диссертации. Я ухватился за его предложение и начал экспериментальные исследования, изучая в то же время теории Гиббса, Гельмгольца и других ученых, главным образом немецких, по физической химии. Чем больше проникаешь в глубь какой-нибудь проблемы, тем сильнее убеждаешься в том, что эта проблема представляет собой исключительно важный предмет. Так было и со мной. Электромагнитная теория Максвелла-Фарадея была на время отложена из-за моего интереса к физической химии и, главным образом, из-за возможности написать докторскую диссертацию, что мне в конечном счете и удалось сделать.
В конце первого семестра, весной 1887 года, по предложению Вебстера, мы отправились с ним на короткое время в Париж. Нам хотелось увидеть, как обстояло дело с естественными науками в Сорбонне и в Колледж де Франс, чтобы сравнить академический мир Парижа с берлинским. Мы пробыли там три недели и узнали немало новых и интересных вещей. Архитектурные памятники Парижа, художественные галлереи и музеи произвели на меня неизгладимое впечатление. Как памятник богатой старой культуры, Париж, думалось мне, был несравненно выше Берлина. Дух Лапласа, Лагранжа, Фурье, Ампера, Араго, Френеля, Фуко и Физо был жив в древних аудиториях Сорбонны и Колледжа де Франс. Дух славного прошлого естественных наук во Франции чувствовался в Париже больше, чем в Берлине. Но на каждого знаменитого ученого в физике и математике, работавших в то время в Париже, как Пуанкарэ, Эрмит, Дарбо, Аппель, Липпман, в Берлине приходилось несколько таких ученых. И в Париже, по моему мнению, не было никого, кого бы можно было поставить рядом с Гельмгольцем, Кирхгофом и Дюбуа Рэймондом. Там не было и государственного деятеля такого калибра, как Бисмарк и генерала, равного Мольтке. Генерал Буланже был в то время в большом почете. Мне пришлось его видеть на большом официальном приеме, и я бы очень сожалел, если бы ему была доверена судьба Франции. Физические и химические лаборатории в сравнении с берлинскими были оборудованы как-то бедно. Завешенные брезентом статуи на Площади Согласия, говорившие о французском трауре по поводу потери Эльзас-Лотарингии, завершали в моем уме картину Парижа, которая была какой угодно, но только не веселой. Франция, казалось, еще не оправилась совсем от ран 1870–1871 гг. Два года до этого я проезжал через Париж, когда я ехал из Порника на родину, и в то время я унес с собой более радостную картину. Но тогда это были лишь двухдневные наблюдения, и кроме того я не знал еще Берлина и не мог делать никаких сравнений. Если Париж отражал дух Франции, а Берлин — Германии, то Франция, рассуждал я, была соколом с перебитыми крыльями, а Германия — молодым орлом, который только что открыл в себе чудесную силу. Замечательная интеллектуальная и физическая мощь новой империи производила сильное впечатление на каждого иностранного студента в Берлинском университете. Это было поводом для многих моих размышлений, когда я искал объяснения немецкой мощи.
Было одно объяснение, которое всегда прельщало меня своей простотой. Я слышал его от одного очень образованного немца. Оно было таково: немецкое железо, включая и те огромные залежи железной руды, найденные немцами в Эльзас-Лотарингии, содержало фосфор. Поэтому Германия не могла создать стальную индустрию, а без нее невозможно никакое большое промышленное развитие в молодой стране. Произошло чудо. Молодой англичанин, служащий полицейского лондонского суда, сделал открытие, которому было суждено дать Германии ее огромную стальную промышленность Это был С.Г.Томас, открывший так называемый «основной Бессемеровский» процесс. Благодаря этому процессу, железная руда, содержащая фосфор, легко может быть использована для изготовления железной и стальной продукции. Это и дало толчок для развития современной промышленности стали в Германии в начале восьмидесятых годов прошлого столетия. Многие улицы в городах немецкой стальной промышленности были названы в честь Г.Томаса. «Это и является, говорил мне тот образованный немец, той мощью, которую, как вы выразились, почувствовал в себе молодой германский орел». У меня возникло подозрение, что целью его рассказа было опровергнуть мое мнение, что замечательная мощь Германии была обязана слабости Франции. Поэтому я проверил данные его информации и убедился, что они соответствовали действительности. Несколько лет тому назад я рассказал об этом ныне покойному Андрю Карнеги, и он еще раз подтвердил их. Сегодня я убежден, что ни мощные заводы Круппа, ни огромный германский флот, ни многие другие предприятия, возникшие после того времени, не были бы возможны без того начала, которое было сделано с помощью открытий Г.Томаса.