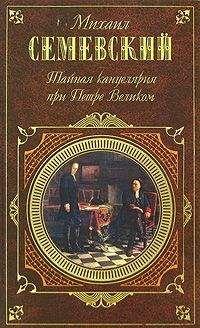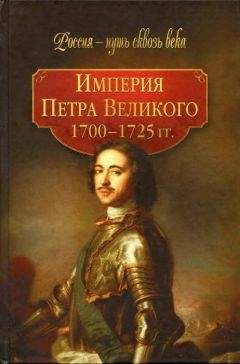Михаил Семевский - Слово и дело!
Начался общий разговор. Прасковья Федоровна искусно навела его на Гамильтон, извиняла ее преступления человеческою слабостью, страстью и стыдом; превозносила добродетель в государе, сравнивала земного владыку с Богом небесным, который долготерпелив и многомилостив и проч. Апраксин, Брюс и Толстой, согласно с царицей, стали просить за злополучную фрейлину, говоря в смысле слов псалма: «Аще беззакония назриши Господи, кто постоит?»
Петр был в духе, выслушал челобитье терпеливо, не перебивал просителей; когда они кончили, он спросил невестку:
— Чей закон есть на таковые злодеяния?
— Вначале Божий, а потом государев, — отвечала Прасковья.
— Что ж именно законы сии повелевают? Не то ли, что «проливаяй кровь человеческую, да пролиется и его?»
Царица должна была согласиться с тем, что за смерть — смерть.
— А когда так, — сказал Петр, — порассуди, невестушка; ежели тяжко мне и закон отца или деда моего нарушить, то коль тягчае закон Божий уничтожить? Я не хочу быть ни Саулом, ни Ахавом, — продолжал царь, обращаясь к министрам, — которые, нерассудною милостию закон Божий преступя, погибли и телом и душою; и если вы имеете смелость, то возьмите на души свои сие дело и решите, как хотите, я спорить не буду.
Все умолкли; никто не решался ни брать на себя ответа, ни делать того, на что не было охоты у повелителя. Прасковья Федоровна, видя, что ходатайство ее ни к чему не повело, поспешила «шуточным прикладом речь свою замять».
Что было причиной строгости царя относительно женщины, которая пыткой и годовым самым ужасным заключением, причем четыре месяца в кандалах была, по-видимому, достаточно уже наказана? Панегиристы Петра — Татищев, Штелин, Голиков, Н. Полевой и другие находят, что строгость Петра прямо вытекала из желания неуклонно выполнить закон; но в таком случае рождается вопрос: всегда ли выполнял он закон, хотя бы и в уголовных только преступлениях? Напротив, во многих случаях Петр не только уступал просьбам царицы и приближенных вельмож, но нередко милостиво принимал его величество ходатайство смелого шута; даже любимой собаки, на ошейнике которой догадывались привязать челобитье о помиловании или, по крайней мере, о смягчении сурового его закона…
Итак, не было ли другого обстоятельства, которое вызывало со стороны царя Петра строжайшее наказание камер-фрейлины Гамильтон?…
Гельбиг разрешает этот вопрос любопытным известием, за достоверность которого он ручается (sic): «Почти всем известно, — говорит автор Russische Gunstlinge, — из N 88 анекдотов Штелина о Петре Великом, что девица Гамильтон извела своего собственного младенца и за что ей отрублена была голова, но, может быть, немногие знают, что отцом этого младенца был — Петр I».
Мы не беремся решать, кто был отцом задушенного дитяти: Петр Алексеевич или Иван Михайлович? Но едва ли может быть сомнение в том, что ревность, досада на неверность Гамильтон немало усугубили строгость к ней великого монарха.
В субботу, 14 марта 1719 года, погода была ветреная, утро туманное.
Лишь только стало рассветать, на Троицкой площади, близ крепости, собралась толпа народа, издавна уже привыкшего к казням. Солдаты цепью окружали место казни, наблюдая за порядком. Зеваки окружали эшафот, поджидая жертвы и поглядывая на полусгнившие головы заговорщиков, казненных 8 декабря прошлого года. Государь не замедлил приездом.
Привели из крепости осужденных. Марья Данилова до последнего мгновенья ждала прощения. Догадываясь, что государь будет при казни, она оделась в белое шелковое платье с черными лентами, без сомнения, в надежде, что красота ее, хотя уже поблекшая от пыток и заточения, произведет, однако, впечатление на монарха… Она ошиблась. Впрочем, государь был ласков — по крайней мере, не осыпал ее упреками, насмешками, бранью, чем сплошь да рядом сопровождались прочие казни, какие бывали в высочайшем его присутствии.
«Девка Марья Гамантова, да баба Катерина! — воскликнул один из секретарей, начиная чтение приговора, — Петр Алексеевич, всея великия и малыя, и белыя России самодержец, указал за твоя, Марья, вины, что ты жила блудно и была от того брюхата трижды; и двух ребенков лекарством из себя вытравила; а третьяго родила и удавила, и отбросила, в чем ты во всем с розысков винилась: за такое твое душегубство — казнить смертью.
А тебе, бабе Катерине, что ты о последнем ее ребенке, как она, Марья, родила и удавила, видела; и, по ея прошению, онаго ребенка с мужем своим мертваго отбросила, а о том не доносила, в чем учинилась ты с нею сообщница же, — вместо смертной казни учинить наказание: бить кнутом и сослать на прядильный двор, на десять лет».
Трепетала от ужаса камер-фрейлина, молила о пощаде. Петр, так рассказывал Штелину Фоециус, придворный столяр, очевидец события, простился с нею, поцеловал и сказал: «Без нарушения божественных и государственных законов не могу я спасти тебя от смерти. Итак, прими казнь, и верь, что Бог простит тебя в грехах твоих, помолись только ему с раскаяньем и верою».
Она упала на колени с жаркою мольбою. Государь что-то шепнул на ухо палачу; присутствовавшие думали, что он изрек всемилостивейшее прощение, но ошиблись; царь отвернулся, сверкнул топор — и голова скатилась на помост. Он исполнил данное прежде обещание: тело красавицы не было осквернено прикосновением катских рук.
Великий Петр, повествуют иноземные писатели, поднял голову и почтил ее поцелуем. Так как он считал себя сведущим в анатомии, то при этом случае долгом почел показать и объяснить присутствующим различные части в голове; поцеловал ее в другой раз, затем бросил на землю, перекрестился и уехал с места казни.
Вечером того же дня малограмотный писарь гарнизонной канцелярии отметил, между прочим, в журнале: «14 марта: по указу его царского величества казнена смертию дому его величества девица Марья Данилова: отсечена голова; девица содержалась в гарнизоне под караулом».
Катерина-служанка была высечена кнутом и сослана по приговору.
Что касается до Ивана Орлова, то он был освобожден еще 27 ноября 1718 года.
По этому поводу И. И. Неплюев рассказывал следующее: «Несмотря на все уверения Орлова о том, что он не ведал о детоубийствах, Петр все еще сомневался и целый год держал его в тюрьме. Наконец, бывши на одной ассамблее, приказал привести заключенного денщика. Снова убеждал его, что если он ведал об убийстве, то покаялся бы чистосердечно, „потому (говорил государь) согрешить есть дело человеческое, а не признаваться в грехе есть дело дьявольское. Покайся и я тебя прощу!“
Орлов продолжал говорить, что он невинен, и клятвами подтверждал уверения.