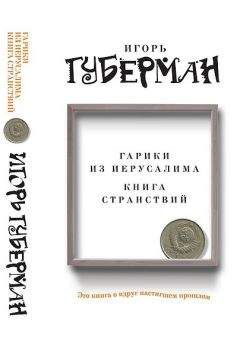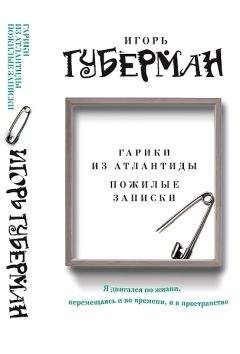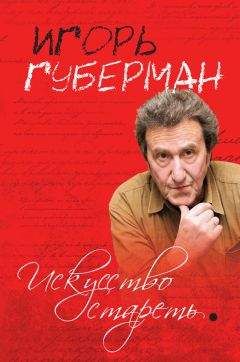Игорь Губерман - Книга странствий
А я ещё одну причину знал, и тоже вескую. Вслух никогда и ни при ком не разговаривал Бехтерев (в полное отличие от своего коллеги Павлова) о том, как он относится к советской власти и что он думает о ней. Ибо в семнадцатом году летом, в кратком промежутке между Февралём и Октябрём, написал повсюдно почитаемый профессор Бехтерев статью (в самой известной питерской газете напечатав), что по степени вреда большевики намного для России пагубней, нежели любые немецкие шпионы. О, он не мог не понимать, что ему ещё о ней напомнят, и свои принимал посильные меры: например, в двадцать каком-то году, будучи в Праге, уговорил остаться там свою дочь. Сам он без России жизнь не мыслил.
Все ученики его, старые уже профессора, насмерть перепуганные той эпохой, которую чудом пережили, на мои горячие расспросы откликались вяло и безразлично. Нет, ни о каком убийстве они вроде бы не слышали до середины пятидесятых годов (ни разу за тридцать лет!), а после хлынуло такое море сведений о мерзости и крови, что и эта легенда просочилась невозбранно, как-то машинально утвердившись. А быть может, что-то помнят близкие? говорили они мне, чтоб отвязаться. На дворе был год семьдесят пятый, и ещё лет десять оставалось до поры, когда вдруг все заговорили громко, оживлённо и взахлёб. А дочка Бехтерева была ещё жива, и я давно с ней в переписке был. Я излагать ей миф не стал, я просто у неё в очередном письме спросил, не доносились ли до неё какие-либо слухи о неясной, как бы сильно преждевременной (уж очень был здоровый человек) смерти отца. Старушка мне ответила с готовностью и очень возбуждённо. Да какие слухи! - писала она, вся родня всегда прекрасно знала, что Владимира Михайловича отравила молодая жена-мерзавка с целью получить его денежные накопления. Не сходилось, ибо Бехтерев в те годы вовсе не был даже состоятельным человеком. Всё, что удавалось ему заработать врачеванием, он тратил без остатка на институт, который без его поддержки неминуемо бы развалился.
Почему мне так хотелось опровергнуть этот миф? За истиной я вовсе не охотился. Но мне казалось (кажется и посейчас), что если человеку, совершившему такое море злодеяний, хоть одно пришить несправедливо, то это чуть скомпрометирует, поставит под сомнение и остальные все его злодейства.
Я обо всём об этом написал в нетолстой книге "Бехтерев. Страницы жизни", и мне всё это исправно вычеркнул редактор, дороживший своим рабочим местом. Я огорчился, но немедля уступил (очень хотелось видеть книжку), так там и осталось некое глухое и зловещее упоминание. А после все, кому по собственному тексту это было нужно, вопияли об убийстве Бехтерева Сталиным, ссылаясь (кто ссылался) - на меня. Развелось огромное количество профессиональных вскрывателей язв прошлого (уже и безопасно это было, и доходно), и Бехтерева навсегда пришили бедному генсеку. Письма дочери отдал я, уезжая, в институтский архив.
Однако же, я знал уже тогда, откуда появился этот миф. Меня постигло озарение и сладостное чувство достоверности его, поэтому доказывать я ничего не собираюсь, просто изложу - про озарение и про его проверку. Где-то я в восьмидесятых уже годах услышал или прочитал, как странно и загадочно умер весной пятьдесят первого года один видный российский психиатр. И нам сейчас не важно его имя, он забыт уже даже коллегами своими. А тогда он был профессор, знаменитость, директор крупной психиатрической клиники, был представителем советской психиатрии на Нюрнбергском процессе (что серьёзно говорит о его полной укоренённости в начальственной иерархии), и вдруг - без повода малейшего - покончил с собой. Случилось это поздно ночью или на рассвете. Вечером он вызван был к товарищу Сталину, с которым разговаривал о каких-то недомоганиях вождя. Приехав домой, он заперся у себя в кабинете и в течение нескольких часов ходил из угла в угол - это слышала жена. Потом раздался выстрел. Боялся лагеря? Понимал, что обречён, поскольку стал свидетелем какого-то заветного недомогания вождя? А может быть, и сам генсек сказал с присущим ему нероновским юмором: "Теперь, товарищ профессор, вы знаете обо мне слишком много". Сейчас об этом можно лишь гадать. Но где-то на бытовом уровне разговоров-слухов его незначащее имя подменилось именем, известным каждому. И подлинный досужий слух стал широко ходящим мифом.
Я ощущал живое дыхание истины, и мой восторг легко себе представить. Я немедленно решил проверить свою мысль на человеке, в историческое чутьё которого верил безоглядно. Я позвонил Тонику Эйдельману и, волнуясь и гордясь, ему всё это изложил.
- Ты понимаешь, - говорил я медленно для вящей убедительности текста, - ведь подмена эта могла быть совершена даже сознательно. Ты разве, например, поставил бы мне сто грамм и на закуску колбасу, если бы я тебе рассказывал душещипательную байку о самоубийстве некоего известного только в своих кругах профессора? Да ни за что! И я бы не поставил. Даже слушать бы не стал - вокруг тогда такое сотворялось! А про великого учёного, ещё когда поставившего нашему великому вождю такой всё объясняющий диагноз слушал бы, раскрывши рот. И рюмку бы налил.
И к удивлению моему, Тоник немедля согласился. И потребовал на всякий случай всё записать (увы, он верил в пользу и сохранность текстов). И ещё сказал:
- А как запишешь - приезжай. Я тебе поставлю рюмку за антинаучную методику мышления.
Карнавал свободы
В Сухуми некогда существовал изумительный обезьяний питомник. В наступившее смутное время нечем было кормить обезьян, и кто-то мне рассказывал, что питомник полностью разорён. Впервые я попал в Сухуми в начале шестидесятых, это был ещё цветущий курортный город, и я остро помню наслаждение от гуляний по нему. А где-то возле моря я наткнулся на забегаловку-столовую прямо под открытым небом. Только над столами были хилые навесики, почти от солнца не спасавшие, но тем не менее, там было полным-полно стариков. Они пили дивный кофе - две жаровни с раскалённым песком обеспечивали всех бесперебойно, запивали каждый глоток водой и ругали советскую власть на пяти языках. Кроме русского, грузинского и абхазского, там ещё были греческий и идиш. Я разобрался во всём этом не сразу, но когда я пришёл туда вторично, меня уже приметили, и ко мне подошёл худой старик, вежливо спросивший меня на идиш, откуда еврей. Я, как ни странно, понял и ответил столь же вежливо, что говорю только по-русски, из Москвы, а здесь в командировке. Старик молча перенёс свой кофе за мой столик и по-будничному очень задал мне вопрос, как живут московские евреи. В те года я начисто не ведал, как они живут, и честно ему это сообщил. Ну да, сказал старик печально и спокойно, мы начинаем замечать свой народ, когда нам больше не к кому прислониться. Любите кофе? - спросил он без всякого перехода. Очень, ответил я, в Москве такого кофе нет, хотя я покупаю его в зёрнах, сам мелю и варю в такой же джезве. Старик оживился, будто я рассказывал ему о жизни евреев. Просто вы снимаете его чуть раньше или чуть позже, чем нужно, заявил он уверенно. Среди друзей я слыл за матёрого кофевара и поэтому чуть поднял брови недоверчиво. Одна из жаровен стояла от нас неподалёку. Над одной из джезв возник холмик кофейной пенки, женщина при жаровне протянула руку и застыла, выжидая, пока холмик чуть опал, выпукло закатываясь за края сосуда - только тут она выдернула джезву из песка. Вот видите, сказал старик назидательно, кофе надо снимать, когда он охуевает. Я засмеялся благодарно, мы разговорились. Я в Сухуми был в командировке инженерной, но уже и начинал писать - нельзя сказать, что я такой уж был распахнутый в те годы, только почему-то через полчаса старик осведомлён был обо мне, моей родне, моих друзьях и помыслах так полно, словно я за этим и приехал. Это он мне так же вскользь и буднично сказал о теме стариковских разговоров, а на моё естественное недоумение пугливого московского интеллигента (я даже высказать его не успел) старик ответил сам в том смысле, что чекистов старики нисколько не боятся, они всю жизнь боялись только уголовного розыска, хоть и того не очень. Жить надо всем, добавил он туманно и доходчиво.