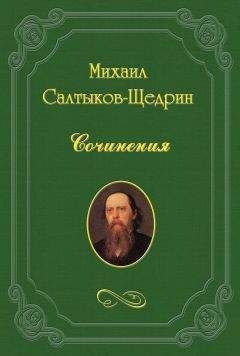Павел Фокин - Булгаков без глянца
Бедный Шостакович — каково ему теперь будет. <…>
<1937>
18 февраля.
<…> Вечером Вильямсы и Любовь Орлова. Поздно ночью, когда кончали ужинать, позвонил Гр. Александров и сообщил, что Орджоникидзе умер от разрыва сердца. Это всех потрясло. <…>
20 февраля.
Проводила М.А. в Большой. Вышли из метро на площадь Дзержинского, потому что на Театральную не выпускали.
М.А. был на репетиции «Руслана», потом его позвали на совещание о том, как организовать приветствие Блюменталь-Тамариной к ее 50-летнему юбилею. А потом он с группой из Большого театра вне очереди был в Колонном зале. Рассказывал, что народ идет густой плотной колонной (группу их из Большого театра присоединили к этой льющейся колонне внизу у Дмитровки). Говорит, что мало что рассмотрел, потому что колонна проходит быстро. Кенкеты в крепе, в зале колоссальное количество цветов, ярчайший свет, симфонический оркестр на возвышении. Смутно видел лицо покойного. <…>
27 апреля.
Шли по Газетному. Догоняет Олеша. Уговаривает М.А. пойти на собрание московских драматургов, которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с Киршоном. Уговаривал выступить и сказать, что Киршон был главным организатором травли М.А.
Это-то правда. Но М.А. и не подумает выступать с таким заявлением и вообще не пойдет.
Ведь раздирать на части Киршона будут главным образом те, что еще несколько дней назад подхалимствовали перед ним. <…>
7 мая.
Сегодня в «Правде» статья Павла Маркова о МХАТ. О «Турбиных» ни слова. В списке драматургов МХАТа есть Олеша, Катаев, Леонов (авторы сошедших со сцены МХАТа пьес), но Булгакова нет. <…>
8 мая.
М.А. пошел на «Дубровского» в филиал. Звонок по телефону в половину двенадцатого вечера. От Керженцева. Разыскивает М.А. Потом — два раза Яков Леонтьевич с тем же — из кабинета Керженцева. Сказал, что если Керженцева уже не будет в кабинете, когда вернется М. А., то пусть М.А. позвонит завтра утром Платону Михайловичу. Что Яков Леонтьевич сказал Керженцеву о крайне тяжелом настроении М.А. Прибавил: — Разговор будет хороший.
9 мая.
Ну, что ж, разговор хороший, а толку никакого. Весь разговор свелся к тому, что Керженцев самым задушевным образом расспрашивал: — Как вы живете? Как здоровье, над чем работаете? — и все в таком роде.
М.А. говорил, что после всего разрушения, произведенного над его пьесами, вообще работать сейчас не может, чувствует себя подавленно и скверно. Мучительно думает над вопросом о своем будущем. Хочет выяснить свое положение.
На все это Керженцев еще более ласково уверял, что все это ничего, что вот те пьесы не подошли, а вот теперь надо написать новую пьесу, и все будет хорошо.
Про «Минина» сказал, что он его не читал еще, что пусть Большой театр даст ему. А «Минин» написан чуть ли не год назад, и уже музыка давно написана! Словом — чепуха. <…>
14 мая.
Вечером — Добраницкий. М. А-чу нездоровилось, разговаривал, лежа в постели. Тема Добраницкого — мы очень виноваты перед вами, но это произошло оттого, что на культурном фронте у нас работали вот такие как Киршон, Афиногенов, Литовский…
Но теперь мы их выкорчевываем. Надо исправить дело, вернувши вас на драматургический фронт.
Ведь у нас с вами (то есть у партии и у драматурга Булгакова) оказались общие враги и, кроме того, есть и общая тема — «Родина» — и далее все так же.
М.А. говорит, что он умен, сметлив, а разговор его, по мнению М. А., — более толковая, чем раньше, попытка добиться того, чтобы он написал если не агитационную, то хоть оборонную пьесу.
Лицо, которое стоит за ним, он не назвал, а М.А. и не добивался узнать.
Добраницкий сказал, что идет речь и о возвращении к работе Николая Эрдмана.
15 мая.
Утром — телефонный звонок Добраницкого. Предлагает М. А., если ему нужны какие-нибудь книги для работы, — их достать.
Днем был Дмитриев.
— Пишите агитационную пьесу!
М.А. говорит:
— Скажите, кто вас подослал?
Дмитриев захохотал.
Потом стал говорить серьезно.
— Довольно! Вы ведь государство в государстве! Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться, все сдались. Один Вы остались. Это глупо! <…>
11 июня.
Утром сообщение в «Правде» прокуратуры Союза о предании суду Тухачевского, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путны и Якира по делу об измене Родине.
М.А. в Большом театре на репетиции «Поднятой целины». Разговор с Самосудом по поводу соловьевской оперы.
Митинг после репетиции. В резолюции — требовали высшей меры наказания для изменников. <…>
12 июня.
Сообщение в «Правде» о том, что Тухачевский и все остальные приговорены к расстрелу. <…>
22 июня.
Вечером — Федя. На днях уезжает в Париж. Поездку считает трудной, ответственной. Ну, конечно, разговор перебросился на дела М.А. Все тот же лейтмотив: М.А. не должен унывать, должен писать. М.А. сказал, что чувствует себя как утонувший человек — лежит на берегу, волны перекатываются через него… <…>
20 августа.
Холодный обложной осенний дождь.
После звонка телефонного — Добраницкий. Сказал, что арестован Ангаров. М.А. ему заметил, что Ангаров в его литературных делах (М. А.), в деле с «Иваном Васильевичем», с «Мининым» сыграл очень вредную роль.
Добраницкий очень упорно предсказывает, что судьба М.А. изменится сейчас к лучшему, а М.А. так же упорно в это не верит. Добраницкий:
— А вы жалеете, что в вашем разговоре 1930-го года со Сталиным вы не сказали, что хотите уехать?
— Это я вас могу спросить, жалеть ли мне или нет. Если вы говорите, что писатели немеют на чужбине, то мне не все ли равно, где быть немым — на родине или на чужбине? <…>
23 сентября.
Мучительные поиски выхода: письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать роман и представить?
Ничего нельзя сделать. Безвыходное положение.
<…> 2 октября 1937.
М.А. говорит за ужином:
— Подошел к полке снять первую попавшуюся книжку. Вышло — «Пессимизм»…
<…> 3 октября.
<…> В разговоре М.А. сказал:
— Я работаю на холостом ходу… Я похож на завод, который делает зажигалки… <…>
23 октября
<…> У М.А. из-за всех этих дел по чужим и своим либретто начинает зреть мысль — уйти из Большого театра, выправить роман («Мастер и Маргарита»), представить его наверх.