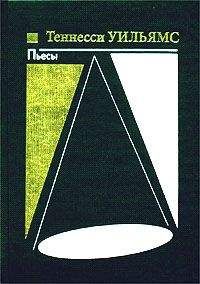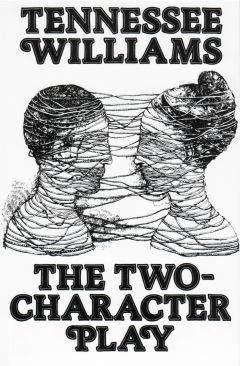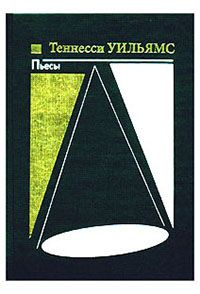Теннесси Уильямс - Мемуары
Позже мы жижи в одном высоченном доме рядом с небоскребом «Дакота» на Западной семьдесят второй, и проводили за покером по крайней мере одну шумную ночь в неделю.
Прошлой ночью мы снова играли в покер — здесь, в Сан-Хуане, и Хосе подарил мне первую копию (готовые гранки) его готовящихся к выходу мемуаров. Они называются «Если вы не танцуете, вас бьют». Зачаровывающая книга, уместность названия которой подвигнула меня на существенное изменение текущего (неопубликованного) названия моих собственных мемуаров.
Очень трудно писать о периоде глубочайшей, почти клинической депрессии, потому что когда находишься в этом состоянии, все видишь через темные очки, которые не только затемняют, но и искажают видимое. Об этом очень опасно писать, потому что зародыши такого состояния все еще гнездятся в твоей нервной системе и в любой момент могут ожить, если о них думать.
Мне придется рискнуть и писать сегодня утром, несмотря на то, что я нахожусь в депрессии из-за состояния одного из моих старейших и ближайших друзей, профессора Оливера Эванса, вернувшегося в свой родной город, в Нью-Йорк, пациентом клиники Окснера с симптомами рецидивов болезни. (Несколько лет назад у него удалили злокачественную опухоль головного мозга; после этого его подвергали кобальтовой терапии. За несколько месяцев, как казалось, он почти полностью излечился; приступил к преподаванию по полной программе на кафедре английской литературы в Калифорнийском университете; возродилась его писательская карьера; все шло прекрасно, пока несколько месяцев назад он не начал страдать от внезапных приступов головокружения, падений: сломал тазобедренный сустав, получил множество других травм. Теперь он полностью недвижен и опасается, что муж его близкой родственницы, которого он считает своим врагом, упечет его в государственную психлечебницу.)
Сразу после смерти Фрэнка я улетел обратно в Ки-Уэст, куда несколько месяцев назад отправил и поэта Ангела. Но сейчас Ангел был не в состоянии мне помочь, как и любой другой человек. Вероятно, мне лучше было бы сразу лечь в больницу — добровольно или нет. Удивительно, каким одиноким становится человек во время глубокого личного кризиса. Удивительно — это слишком удобный термин, это эвфемизм. Голым, холодным фактом является то, что почти все, кто знает тебя, отодвигаются, как будто ты — носитель ужасной заразы. По крайней мере, так кажется.
Полное расстройство моего здоровья в шестидесятые годы — в мой «каменный век» — напоминает мне замедленную съемку здания, взрываемого динамитом: все растягивается во времени, но от этого не становится легче.
В Ки-Уэсте мои отношения с Ангелом восстановились. Но даже ангелы страдают человеческими слабостями и склонностью к дезертирству, такова жизнь.
Ангел дезертировал — эмоционально, это и так понятно — к молодому человеку, в прошлом пилоту коммерческих рейсов, ныне наркоману с позывами к самоубийству, но с большим шармом и очень привлекательной внешностью.
Если когда-нибудь возникали позывы к самоубийству при моем собственном коктейле из таблеток и спиртного, позывы, отличные от прогрессирующего помешательства — то исключительно на подсознательном уровне. Это глупая ремарка, я знаю. Просто я не могу быть красноречивым в таком трудном деле, как мой полный коллапс в шестидесятые годы. Я не способен дать детальный отчет, не уморив и себя, и вас — могу только привести наиболее примечательные симптомы и случаи, такие, как…
Однажды дамы из садового клуба Ки-Уэста пришли на экскурсию в мой сад, расположенный на маленьком участке на Дункан-стрит.
Брэдли и Ширли Эйрс, вдова Лемюэля Эйрса, взяли меня с собой на пляж в Саут-бич, а дам из садового клуба принимали Леонсия и Ангел.
Я не смог в тот день долго быть на пляже. Принял секонал и пошел домой, когда и в доме, и на участке еще были любопытствующие дамы.
Я вошел и начал на них орать: «Вон, вон, вон, вон!»
Они бросились во все стороны, как куры в грозу; я принял еще одну таблетку и лег спать…
(Этот случай стал легендой Ки-Уэста.)
Позднее, той же весной, я прогнал Ангела. Помню, он говорил мне: «Я думал, что нашел дом».
Ангел и вправду был хорошим мальчиком, но я чувствовал себя опустошенным.
Это событие стало началом моего падения в глазах общества на самом южном из наших островов. Сказать, что я никогда не обращал особого внимания на традиционное общество Ки-Уэста — это не сказать ничего. У меня вполне донкихотские представления о том, что я могу принадлежать ко всем обществам: и к богемному, и к элитарному, и к гетеросексуальному, и к гомосексуальному. Я знаю многих в «голубом» мире, кому подобный трюк удается с видимой легкостью; но все же для этого требуется немалая доля лицемерия, даже теперь, когда западное общество позволяет себе отбросить свои предубеждения. У меня такое чувство, что эти «табу» просто ушли в подполье.
В любом случае я был слишком эксцентричен в это десятилетие — даже для самых открытых представителей «голубого» мира.
(Пожалуйста, поймите меня правильно — я сам себя не всегда понимаю верно.)
Направление моей жизни было — отстранение от общественных и сексуальных контактов, не по сознательному выбору, но вследствие все более и более глубокого погружения в разрушенный мир своего «я».
Я достиг самой низкой точки этого долгого периода депрессии, начав жить совершенно один. Я перестал ориентироваться во времени и пространстве, но инстинкт вел меня в Новый Орлеан, и я предпринял последнюю попытку в одиночку обрести себя. В то время я еще предпринимал такие попытки — обреченные на провал. Мне кажется, депрессию можно назвать «клинической», когда жертва ее перестает двигаться, перестает есть и мыться. Я никогда не опускался до такой степени, но, несмотря на мои попытки продолжать жить, осознавал привлекательность смерти. Самым болезненным аспектом депрессии была почти полная невозможность разговаривать с людьми. Пока ты можешь общаться с кем-нибудь, кто симпатизирует тебе, у тебя остается шанс на спасение.
К моменту возвращения в Новый Орлеан я дошел уже до мутизма[78]. И тем не менее честно, хотя и почти безнадежно, пытался найти выход из положения.
Через кого-то, точно не помню, я нашел идеальное место, чтобы предпринять эту последнюю попытку. Мне помогли снять на шесть месяцев симпатичный розовый домик с белыми ставенками на Дофин-стрит в старом квартале. Он был восстановлен и красиво декорирован покойным ныне Клеем Шоу и был одним из маленьких домиков, выходивших фасадами на Дофин и Сент-Луис-стрит, образующих букву «Г» вокруг чудесного патио с плавательным бассейном — у каждого домика был еще и свой собственный садик. Погода была солнечной, но нежаркой; дружелюбная черная девушка каждый день приходила убирать; но несмотря на все эти благоприятные условия, я сумел превратить это в нечто психологически столь устойчивое, как «Нора» Кафки.